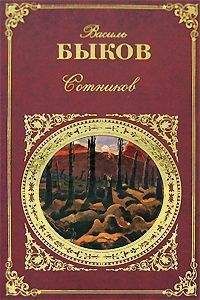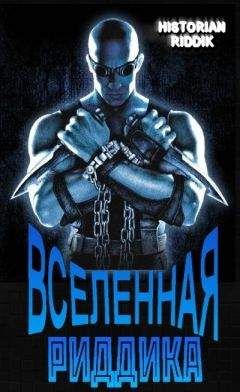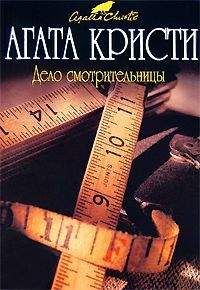Иван Свистунов - Все равно будет май
Если вам доведется найти Тимошку в городе Берлине, то вы сами знаете, что нужно сделать с таким врагом рода человеческого за все его немыслимые злодеяния».
Надо думать о другом. Постороннем. Обычном. О чем угодно. Только о другом. Не об Азе и Федюшке, не о слове «кончили», а о другом. Все равно о чем. Только о другом. О том, что пора почистить пистолет, пришить на шинель оторвавшуюся пуговицу… Если думать об Азе, о сыне, о неизвестно где блуждающем отце, то можно закричать, завыть, удариться головой о стену…
Но Алексей Хворостов не мог заставить себя думать о другом. Против воли воображение рисовало картины гибели родных. Он гнал эти картины, но они возвращались, вставали перед глазами, словно безжалостный художник иллюстрировал каждое слово письма. И в них — черным пятном — Тимофей Жабров. Круглые оцинкованные глаза, трупный оскал безгубого рта. И руки! Железные руки робота, памятные еще с тех заройских времен.
Почему они тогда не догнали Жаброва? Если бы они на зарое догнали Тимошку…
Надо думать о другом! О чем угодно! Только о другом! Иначе сойдешь с ума, пустишь пулю в лоб.
Дивизия стояла в обороне. Зарылась в землю. Доты, дзоты, траншеи, колючая проволока, минные поля. Редкие ленивые перестрелки, ночные поиски разведчиков, «охота» снайперов. Оборона! Насколько легче было бы в наступлении! Не так одолевали бы воспоминания, меньше грызла сердце острозубая боль.
Может быть, потому, что в своем письме Ксюша писала о бегстве Тимофея Жаброва в Берлин (откуда она могла знать!), Хворостов все чаще думал: а вдруг их дивизия и в самом деле пойдет на Берлин? Прекрасно понимал: догадка Ксюши ни на чем не основана. Не такие уж гитлеровцы олухи, чтобы тащить в Берлин всякое отребье. Свои бы ноги унести! Все же Алексею казалось: победа будет неполной, если он не дойдет до Берлина.
Как ни кружила метелицами, ни пушила снегами, ни морозила рождественскими да крещенскими морозами зима, но и ее подточили и сломили мартовские ветры. Осели, засахарились сугробы, почернели, одрябли фронтовые дороги, в черной путанице голых кустарников завозились ранние птахи.
Пришла весна.
На других фронтах давно уже шли ожесточенные бои. Гремели освободительные громы вокруг Ленинграда, вырвались наши воины к границам Румынии и Чехословакии, поднялось Красное знамя над руинами Севастополя, по улицам Одессы, Тирасполя, Николаева мчались «тридцатьчетверки». Шла весна тысяча девятьсот сорок четвертого года! Даже американцы и англичане спохватились, как бы без них не пошабашили, и высадились в первых числах июня в Северной Франции: открыли второй фронт!
А их армия стояла, как в землю вкопанная.
— Товарищ замполит! Когда же мы пойдем? Так в Берлин и к шапочному разбору не поспеем. Или как и в прошлом году будем огороды пахать да бульбу выращивать? — осаждали Хворостова солдаты.
— Пойдем, пойдем! — успокаивал Хворостов. — Ставка свое дело знает! — А сам думал, как и солдаты: «Когда же?»
В середине июня по всем признакам стало ясно, что и на их участке фронта готовится большое наступление. Потянулись к передовой студебеккеры с боеприпасами и другим снаряжением. В лесах появились новые артиллерийские и минометные части и среди них длинные машины с верхом, затянутым глухим брезентом, — «катюши». А вернее всего, о предстоящем наступлении говорили тоскливые и в то же время радостные вопросы девчат из окрестных деревень:
— Говорят, скоро трогаетесь?
В ночь на 28 июня полк, где заместителем командира батальона по политической части был майор Алексей Хворостов, с ходу переправился через Днепр и ворвался в город Могилев. Солнечное веселое утро поднялось над городом, дымящимся пожарами. Первые радостные встречи с уцелевшими жителями, первые слезы, жадные вопросы:
— А Ивана Краскевича нет с вами?
— Петю Сугоняя никто не встречал?
— Иващенко Максима знаете?
Алексей Хворостов не запомнил, где и когда он впервые увидел этот плакат. Вероятней всего, в Польше. А может быть, и раньше, в Белоруссии, когда их дивизия вырвалась на прямое шоссе Белыничи — Минск. Какие жаркие, радостные, дух захватывающие были дни! По двадцать, по тридцать километров продвигались за сутки, преследуя в панике бегущих гитлеровцев. Пленных уже не брали. Овечьими отарами покорно брели они за одним-единственным сопровождающим нашим бойцом из нестроевых. Брели к нам в тыл обочинами, уступая дорогу идущим на запад советским войскам.
В белорусских пышных лесах, в нашем тылу, оставались разбитые немецкие части: батальоны, полки, дивизии… Что ни лес, то большой или малый «котел». Некоторые вражеские части, еще сохранившие боеспособность, пытались с боями прорваться на запад. Но большинство дичали в лесах, теряли воинский вид и в конце концов бросали оружие, выходили на дороги:
— Гитлер капут!
Советские войска стремились вперед. В те дни верилось: так будет до самого Берлина, до полной победы. Нет силы, способной задержать наступательный порыв наших воинов. Может быть, в те дни и увидел впервые Алексей Хворостов на развилке дорог указатель: «На Берлин!», а под ним — плакат. Молодой солдат, в пилотке, со скаткой через плечо, с веселым лицом, сидит и, как полагается перед дальней дорогой, переобувается. И подпись:
«Дойдем до Берлина!»
Бойцы остановились перед плакатом. Еще невероятно далек путь до Берлина. Кто из них пройдет его? Знали: не все дойдут. Каждый шаг на этом пути они оплачивают своей кровью, жизнью. Потому-то оптимизм плакатного солдата воспринимался как шутка.
Хворостов посмотрел на бойцов своего батальона. Усталостью дубленные лица, потемневшие гимнастерки, стоптанные сапоги. Пехота!
— Как, товарищ замполит, дойдем? — обратился к Хворостову стоявший рядом боец.
Хворостов еще раз посмотрел на плакат. Лицо нарисованного на нем солдата молодое, задорное, веселое. Будь в его батальоне такие бойцы, он не замедлил бы с ответом. Невольно оглянулся на обступивших его солдат. И странно! Теперь они все показались ему чем-то похожими на того солдата, что улыбался с плаката. И с уверенностью сказал:
— Дойдем!
— Если живы будем, — усомнился кто-то.
— И живы будем, и дойдем. В Берлине скажете мне, если я ошибся.
Солдаты заулыбались:
— Если дойдем до Берлина, какой может быть тогда разговор.
Хворостов смотрел на бойцов и думал: конечно, какой может быть разговор. Наша армия дойдет до Берлина! Это точно! Достаточно оглянуться вокруг. Лежат в кюветах пятнистые гитлеровские танки, разбитые грузовики и повозки, в помятой ржи темнеют трупы в зеленоватом грязном обмундировании. А туши тяжеловозов! Раздувшиеся до чудовищных размеров с поднятыми к небу окостеневшими мохнатыми ногами, они словно олицетворяют собой разгром гитлеровской армии. И смрад. Трупный, сладковато-рвотный смрад поражения и бегства.
Да, до Берлина Красная Армия дойдет. Дело ясное! Но дойдут ли до немецкой столицы все бойцы, стоящие сейчас вокруг плаката, улыбающиеся, закуривающие, отпускающие солдатские шутки…
А наступление продолжалось. Остались позади Березина, Червень, Минск… Вот и станция Негорелое — старая граница. Сколько раз до войны Алексею Хворостову доводилось читать в газетах: «Высокого гостя до пограничной станции Негорелое сопровождали…» Или: «Зарубежная делегация прибыла на станцию Негорелое, где была встречена…» и т. д.
В действительности же часто упоминавшаяся в официальных сообщениях пограничная станция Негорелое оказалась маленьким захолустным зданием с выбитыми стеклами и сорванными дверьми. Большие круглые часы на столбе испуганно растопырили неподвижные мертвые стрелки. Интересно, какое мгновение они запечатлели?
Войска фронта шли на запад по белорусской земле. Когда был освобожден Белосток, у Хворостова появилась новая тревога: а вдруг их дивизии дадут другое направление — севернее или южнее — или, чего доброго, перебросят на другой фронт? Тогда он не попадет в Берлин.
Сверял по карте. Нет, направление подходящее. Теперь указатели на дорогах стали более определенными:
«До Берлина — 1240 км».
«До Берлина — 950 км».
«До Берлина — 730 км»…
А под указателями все тот же неунывающий парень, переобувающийся перед дальней дорогой:
«Дойдем до Берлина!»
В те радостные дни наступления у художника было много соавторов. На плакате с подписью: «Дойдем до Берлина!» — был изображен то молодой веселый парень типа Василия Теркина, то бывалый усатый ветеран, прошагавший в солдатских сапогах не первую войну.
И чем меньше оставалось километров до Берлина на дорожных указателях, тем больше крепла у Хворостова уверенность: «Дойду!»
Теперь Алексей не думал, что его могут ранить или убить. Не может этого быть! Минует пуля, не заденет осколок, промахнется фугаска. Как же иначе! Если он уцелел под Минском в июне сорок первого года, если вышел из белорусских лесов и болот, если не сложил голову под Сухиничами, и чтобы… Нет, нет. Дойдет! Разве зря он принял столько трудов и тягот! Мерз в траншеях, ползал по минным полям, поднимался в атаки навстречу огню и металлу, прижимался к танковой броне…