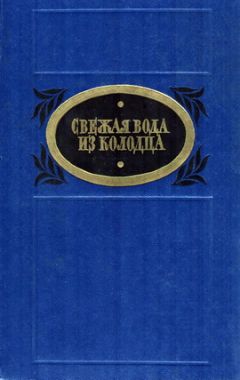Борис Полевой - Современники
Мария Рожнева широко улыбалась. Большие серые глаза ее лучисто сверкали, и вся она, красивая, светлая, была как бы олицетворением здоровой, смелой, одухотворенной юности.
В зале послышался добродушный смех. Грохнули аплодисменты. Но человек в очках не сдался. Он продолжал тянуть руку:
— Но если человек выполнит нормы вдвое и даже втрое, он же должен где-то брать силы. Что бы там фрейлейн нам ни рассказывала, человек, выполнивший работу троих, все равно будет похож на выжатый лимон.
Стоя на трибуне здесь, в чужой стране, перед людьми, которым ежедневно маршаллизованные газеты впрыскивали яд отвратительной антисоветской пропаганды, Мария на миг мысленно перенеслась к тем далеким дням, когда она вместе с Лидией Кононенко обдумывала свое предложение, за которое они потом получили Сталинскую премию.
Ясно встала перед глазами далекая фабрика, утопавшая в зелени душистых распускающихся тополей, мягкий весенний вечер, ровный свистящий гул веретен, доносящийся из открытых окон прядильной, черные горячие глаза подружки. Особое волнение, трепет творчества испытывали тогда они обе. Точно на крыльях летали. Разве могла быть при этом усталость? А если и была она, ее тогда не замечали — так были увлечены.
Мария с насмешливой снисходительностью посмотрела на румяного человека и широко улыбнулась:
— Наши рабочие работают не только руками. Мы работаем и головой. Да, и головой, — запомните это. У нас уже стираются существенные различия между умственным и физическим трудом. У нас есть рабочие, которые читают лекции в институтах, и академики приезжают к нам на фабрику для того, чтобы советоваться с нами. Да-да, и к нам с подружкой приезжали…
Новый взрыв аплодисментов наградил ее за этот спокойный ответ. Румяный господин смолк. Он больше не поднимал руки. Зато с другого конца зала послышался ядовитый вопрос:
— Вот вы сказали, что ваше начинание по изготовлению тканей из сэкономленного сырья очень выгодно. Кому? Вам лично? Много ли оно вам дало?
— Наша фабрика сэкономила на этом за три года около ста миллионов рублей. Сто миллионов!
— Нет, фрейлейн, вы не поняли меня или не хотите понять. Не фабрике, а вам, вам лично! — настаивала пожилая худая женщина в зеленом берете, со щечками-котлетками, вздрагивающими от волнения.
Нет, волноваться не надо. Это, наверно, и есть те самые австрийские меньшевики, эти гнусные предатели, ненавидящие все живое. Спокойно, спокойно! Мария пожимает плечами:
— Я как-то, право, и не подсчитывала, сколько я лично получила за это. Когда мы с Лидой вносили свое предложение, мы даже и не думали о личной выгоде.
— Должно быть, фрейлейн очень богата, если ей не приходится думать о таких прозаических вещах! — резко бросила женщина в зеленом берете.
По залу прошел гул. Кто-то требовал у председателя прекратить вопросы, оскорбляющие гостью, кто-то, наоборот, коротко проаплодировал, кто-то засмеялся.
Мария стояла на трибуне уверенная, спокойная, сияя общительной улыбкой. В глазах ее сверкали задорные огоньки.
— Госпожа спрашивает — богата ли я? Да, я очень богата, — сказала она и, дав переводчику закончить, переждала удивленный шум, прокатившийся по залу. — Мы очень богаты — советские люди, — продолжала она звенящим голосом. — У меня есть свой санаторий, прекрасный санаторий на Черном море, куда я могу ехать на время отпуска. Для меня в Москве строят университет, самый большой университет в мире. Такой вам и представить трудно! Для меня работают лучшие театры, лучшие композиторы пишут для меня музыку, песни, лучшие писатели сочиняют книги. Для меня правительство строит ежегодно десятки тысяч домов. Мы, господа, так богаты, что, не жалея денег, изменяем уже не только экономику и географию, но и самый климат нашей земли. Эти работы стоят миллиарды рублей. А знаете вы, для чего их ведут? Для того, чтобы мне, моему мужу, моему сынишке Володьке — всем нам, советским людям, лучше жилось.
Она победно обвела взором зал, уловила улыбки, радостные кивки, увидела, как какой-то старый человек, сидевший в первом ряду, утирает слезы, и поняла, что и тут светлая правда социалистического бытия победила. Улыбаясь, она повторила:
— Да, я очень богатая, господа! Мы, советские люди, самые богатые на земле.
Но хотя аудитория бурно приветствовала теперь каждую ее фразу, враги не сдавались. Та же женщина в зеленом берете, дождавшись тишины, спросила:
— Пусть так, хотя у меня есть другие сведения… Вот тут наша гостья призывала к борьбе за мир. Мы знаем, у вас об этом много говорят и пишут. Не происходит ли это потому, что вы боитесь американской атомной бомбы, боитесь войны?
Мария Рожнева знала, что, выступая за границей, надо всегда держать себя в руках. Но тут она почувствовала, как сразу запылали у нее щеки, уши, ей стало даже трудно дышать. Ее народ, самый храбрый, самый сплоченный, самый мужественный народ на земле, «боится войны»! Люди, которые в великом единоборстве сломили объединенные силы фашизма, освободили всю Европу, самоё Австрию и весь мир от угрозы гитлеровского рабства, «боятся войны»!
Но сейчас же она приказала себе быть спокойной. Она даже снисходительно улыбнулась:
— В ответ на ваш вопрос я назову только три имени: Карл, так называемый Великий, Наполеон и Гитлер, — сказала она медленно и отчетливо и, выждав, когда смолкнут аплодисменты, продолжала: — Мы не хотим войны, но мы не боимся ее! Запомните все, кто этим интересуется, и передайте тем, кто учит задавать такие вопросы!..
Целая толпа провожала Марию и других советских делегатов до машины. Рядом с ней шел тот старый рабочий в смешной шляпе с тетеревиным перышком, что вытирал глаза, сидя в первом ряду. Держа Марию под руку, он торопливо сказал:
— Видела ли фрейлейн Мария Сталина?
Они стояли уже около машины. Угрюмые австрийские шуцманы в своих высоких касках оцепляли толпу. В отдалении виднелись военные полицейские оккупантов — откормленные, наглые, точно соскочившие с кукрыниксовского рисунка.
Но в это мгновение Мария забыла обо всем. Воспоминания захватили ее. Она увидела себя сначала в ярко освещенном зале на торжественном заседании, посвященном семидесятилетию вождя. Потом Кремль, сессия Верховного Совета…
— Да, я видела товарища Сталина, — тихо ответила она старику.
— Какая ты счастливая! — сказал он и добавил: — Если увидишь его еще раз, передай ему поклон от старого австрийского рабочего. И спасибо тебе за прекрасные уроки, которые ты дала нам сегодня на этом митинге!
Уроки! И этот старый австрийский рабочий считает ее, юную советскую женщину, своей учительницей! Что ж, вероятно, так оно и есть. Каждый советский труженик, воспитанный Коммунистической партией, является в какой-то мере учителем для зарубежных людей.
Мария много думала об этом, путешествуя по Австрии; думала на обратном пути; думала, когда вернулась на родную фабрику и вновь встала к своей машине. И когда комсомольцы в перерыве окружили ее и стали расспрашивать о новой поездке, о том, что ей больше всего запомнилось в ее путешествии по капиталистической стране, она сказала:
— Я, девочки, в этот раз по-настоящему поняла слова товарища Сталина о том, что последний советский гражданин стоит головой выше любого зарубежного высокопоставленного чинуши, влачащего на плечах ярмо капиталистического рабства!
Это и было самым главным ее впечатлением.
СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС
Михаил Григорьевич Муханов — один из тех волгарей, для которых время измеряется не годами, а навигациями.
Первое, что прочно вошло в его жизнь, что память в неувядаемой свежести хранит вот уже около пятидесяти лет, — это большая вода, сверкающая на солнце так, что режет глаза, и невиданный и страшноватый белый дом, каких нет в Василькове, где родился мальчик. Что-то огромное хрипит, ворочается и жарко дышит внутри этого дома. Из длинной трубы валит курчавый дым, и что самое удивительное, дом не стоит на земле, как положено домам, а лежит на воде; а земля, что виднеется справа и слева от него, и все, что на ней есть — сосновый лесок, зеленеющие поля, деревушка, стадо, прячущееся от жары в овраге, — все это вместе с землей торопливо бежит куда-то назад. А почему и куда, Миша не знает, и от этого ему делается страшно.
Он стоит у белой решетки, ограждающей дом от неспокойной бурлящей воды, крепко вцепившись в большую руку загорелого плечистого человека. Этот человек — отец. Для маленького Миши в нем, в отце, сосредоточено все, что есть знакомого и прочного в этом чудном и страшном доме, мимо которого все торопливо бежит назад. А тут еще, где-то рядом, раздается нечеловеческий рев, такой громкий, что воздух кругом начинает гудеть. Может быть, то огромное, непонятное, что хрипело, дышало и ворочалось, сломало железные решетки и вырвалось на волю? Мальчик, дрожа всем телом, прижимается к ноге отца и начинает кричать.