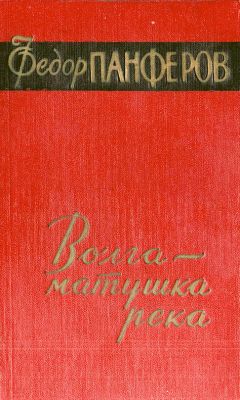Федор Панфёров - Бруски. Книга IV
Стеша поймала его взгляд и дрогнула.
«Что это со мной? — подумала она. — Вот еще раскисла». Она хотела грубо оборвать его, но сказала мягко:
— Вы приходите к нам в бригаду. У нас есть очень хорошие люди, — и повернула голову к окну: далеко в ильменях снова пел рыбак свои ловецкие песни. Значит, занимается заря…
Гости разъезжались, расходились, а Никита Гурьянов, без шапки, что-то мурлыча себе под нос, шагал в поле.
7
Рожь колосистая…
И поют же про тебя песни! Ах, какие про тебя поют песни — звонкие, разудалые! Вот склонилась ты и щебечешь колосом своим усатым, граненым, наливным, тяжелым — и про это поют. Вот выколосилась ты и обильно, охапками во все стороны разбрасываешь желтоватый цвет — и про это поют. Вот сжата ты и лежишь, в снопах — богатырями усеяла поля — и про это поют. Но вот ты сникла, поредела, как волосенки на голове старика — и про это поют, с надрывом, со слезой, с проклятием. Рожь колосистая…
Никита Гурьянов — об этом весь мир знает — никогда толком не обедал. Грязный, с ошметками на руках, он вбегал в избу, хрипло ворчал на своих домашних и, не садясь за стол, хватал раз-два, как собака, и опять бежал в поле. С самой ранней весны и до поздних заморозков он пропадал в поле, норовя «урвать кусок белого пирога». Хапал Никита, урезывал семью, себя, отпахивал борозду у соседа, и, когда это сходило, — радовался, открывалось — молча отступал: все равно борозду отнимут да еще по загривку заедут.
И в кабак сроду не заглядывал.
Рожь колосистая…
Вот она расхлестнулась — море разливное, от конца до конца нет ему края. Она волнуется, тихо, нехотя. Даже ветер-рвун не в силах нарушить ее спокойствия, потрепать ее, как он треплет пахучий полынок: колос ржи наливен, клонится к земле и шуршит, как сафьян.
Никита шагает по полю, разводит рожь руками, а она мягко, беззвучно — а может, Никита ничего не слышит, как токующий глухарь, — рожь колосьями беззвучно бьет его по лицу, ласкает грудь, плечи, спину, и ему хочется пасть на землю, закататься в стебельках ржи, лежать с ней в обнимку и шептать ей свои затаенные мечты, помыслы.
— На! На, бей! — кричит он. — Валяй! Колоти меня, шут тебя дери-то! — и шагает. — Колоти! Колоти! Все одно силу из меня не выколотишь. Я ведь вот какой стал, — и, растопырив пальцы, он сунул их, похожие на когти коршуна, в землю: — Вот какой — всеми корнями в землю ушел.
Ах ты, рожь колосистая…
С перевесны лили дожди — обильные, ласковые, как ласка нареченной. И земля, «усдобленная» перегноем, размякла, развалилась перед солнцем, похваляясь своим богатством.
Земля!
Эх, какая она красивая, когда озимя по ней стелются коврами, когда пшеница таращится зелеными перышками, когда буреет золотистое просо!
Да, в начале весны лили дожди. Но потом наступила жара. Она наступила исподволь. Пропали росы, смолкли птицы, а багровые закаты, точно от пожара, подолгу держались в небе… И низко над землей потянулась едкая гарь.
Всем казалось — это временная напасть. Вот поднимутся ветры, разгонят гарь, и хлеба снова заиграют на солнце. А хлеба ведь играют переливами красок. Хлеба смеются, — шут вас дери-то! — особо в утренние зори после дождя. Вот чего не понимает шантрапа там разная. А тут земля покрылась трещинами, загудела, застонала, пыхая и в поздние ночи жаром… И вдруг в один день загорелись нежные лепестки пшеницы, склонила голову рожь, дрогнули кудрявые овсы, и припало, точно подшибленное, к земле золотистое просо.
— Ба-а-а! — вырвалось тогда у Никиты Гурьянова. — Вот живем на фабрике под открытым небом. Да что те, пес, прорвало? — погрозился он в сухое, знойное небо и с этого дня заболел, как заболели и все.
Люди ходили по полям, топтались в улицах, лазали на сараи, всматривались в даль, ожидая тучки. Не шли тучи. И люди очумело слонялись из стороны в сторону, предлагая разные несуразицы. Епиха Чанцев придумал:
— С аэропланов поливать. А что, а что? — говорил он, сам себе не веря. — Взовьется и давай прыскать с небесей.
Митька Спирин и тот придумал:
— Полог бы сделать. Собрать вон у баб юбки. На кой им их пес? Полог из них сшить и над полем развесить, чтобы жара не палила.
И люди почернели, носы у людей заострились, как у покойников, глаза тупо шарили в мглистом небе, а солнце все так же накаливало землю, рвало землю трещинами, глубокими, похожими на змеи.
— Ах, если бы готова была плотина на реке Алае, — со вздохом сожаления говорил Захар Катаев, но это была мечта столь же пустая, как мечта Епихи Чанцева об аэропланах, Митьки Спирина — о пологе.
«Гибнем», — решил Никита Гурьянов и с этого дня уже не ночевал дома: он жил около хлеба, как живет мать около сильно больного сына. Туда, в поле, Анчурка носила ему еду, там, в поле, в оврагах, она разыскивала его — запыленного, пересохшего. За эти дни Никита почти перестал говорить, он что-то лепетал — несвязное, невразумительное, и Анчурка боялась — он, Никита, рехнется, сойдет с ума, и неустанно следила за ним, стараясь вывести его из оцепенения.
— И чего ты себя изломал как? Государство у нас большое, помогут, ежели что, — раз сказала она.
Никита неожиданно весь взвился и гаркнул:
— Ты кто?… Баба, ай кто? Государство большое, помогут, ежели что. Не хлеб ведь горит… Душа горит, как в пекле. Честь горит. А она — государство большое, помогут, ежели что… С чем в Москву поеду? Фик покажу…
Да, Анчурка поняла — тут государство помочь не сможет. И она вспомнила себя, свои страдания в те дни, когда чума скосила ее кур — три тысячи кур… Да. Она тогда вот так же, как Никита, не находила себе места, вся почернела. Ей было стыдно людям смотреть в глаза.
— Не уберегла, — то и дело шептала она.
Она так же шептала и тогда, когда ей сообщили, что кур заразил чумой Плакущев. Об этом ей сообщил дедушка Катай. Он пришел на птичник. Птичник был уже побелен известью, но стоял пустой, без кур. Дедушка Катай еще издали заговорил:
— Анчурка… Нашли. Озорников-то. Чай, Плакущев, Илья Максимыч… Вот какой… Пес… А? Чего ты?
— А кур-то нет, — ответила Анчурка.
— Ну и что жа? Вот урожай соберем, еще разведем… А ты вот поешь-ка… Яблочков моченых я тебе принес… На-ка… — И дедушка выложил перед Анчуркой моченые яблоки.
— Ой, дедуня, дедуня! — Все говорили, дедушка Катай впадает уже в детство, а тут — вот он пришел. Пришел, чтобы утешить Анчурку в неутешном горе. И Анчурка присела рядом с ним, положила голову на его маленькое, сухое от старости плечо и заплакала тоненько-тоненько, как девчушка. А Катай сказал:
— Уж и не знай, что с тобой мне делать? На кулорт, что ль, хоть тебе поехать.
— Деда, милый, — тихонько всхлипывая, говорила Анчурка. — Лекарство от такой болезни еще не придумали.
И вдруг в эту самую секунду через высокую проволочную решетку полетели куры. Рыжие, черные, белые, серые — всех мастей и красок. Они летят потоком, ураганно, будто откуда-то с неба.
Анчурка приподнялась, крепко вцепилась в костлявое плечо деда Катая и, вся дрожа, точно от озноба, зашептала:
— Батюшки! С ума, с ума схожу… Деда… милый… С ума схожу. Чего это, деда?
Дед Катай сам опешил. Он протер глаза, шагнул к решетке и глухо проговорил:
— Постой-ка, может это я с ума-то схожу?
Но куры летели через решетку, взвихривались, падали во двор разноцветной массой, блестя на солнце золотистыми перьями, и двор огласился кудахтанием, пением петухов, а дед Катай — и откуда у него взялся такой голос — взревел:
— А-а-а! Я баил, я тебе, Анчурка, баил, народ все может… Вот и в кон мои слова.
И верно, в калитку ворвались во главе со Стешей Огневой колхозницы и с криком: «Анчурка! Чтобы рану твою залечить, мы каждая по паре кур от себя», — кинулись к Аннушке, обнимая, целуя ее — высокую, шагистую. И она, высокая, шагистая, казалось — самая грубая деревенская баба, вдруг присела в ногах у колхозниц и заплакала, протягивая к колхозницам руки:
— Подруженьки-и-и! Мамынька родная не делала мне такого добра-а-а.
Да, такое горе, как горе Никиты Гурьянова, может убить человека — это знала Анчурка Кудеярова по себе, но она уже верила в народ, в его силы, во что еще не верил Никита. И она пошла в народ. Она побывала у Захара Катаева, у деда Катая, у Епихи Чанцева, у Стеши. Где только она не побывала. Но ничего путного никто придумать не мог: не прикроешь же солнце собственной голичкой. А хлеба уже начало крутить. Зеленые до черноты перед этим, они завихрились, стали желтеть, и гибель их казалась неминуемой… если бы не дед Катай. Дед Катай, боясь, что Никита с горя-беды наложит на себя руки, стал неустанно преследовать его, рассказывая ему разные штучки и все на тему о недородах. Однажды он рассказал, как они во время суховея всем селом подняли иконы и отправились на гору Балбашиху, к Бездонному озеру.