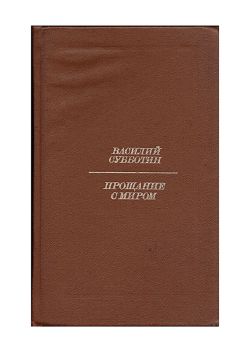Василий Коньяков - Далекие ветры
Старик, не сняв калош, пошел на свет экрана и, не отпуская его, сел на диван. Глаза настроились на четкость, и тогда он увидел людей: сотни людей… Сплошную стену лиц, лиц… А перед ними, взявшись за руки, в плавном движении, влекомые песней, на льду — он и она. Ласкала их музыка. Подпрыгивало, трепыхало при крутом движении круглое крылышко на литых бедрах девушки. Нежны и сильны ее ноги в белых, высоко зашнурованных ботинках с коньками. Незнакома она в девичьей силе своей. Бережен он к ее гибким рукам, и умеет она почувствовать все малейшие движения его души, его желания. Она отдает себя музыке, ему и всем, поворачивает к нему лицо и улыбается оттого, что молода, что счастлива, что горит и светится голубой и ярчайший их мир. Небо ли с ними там, солнце ли там? Откуда льется этот свет? Где наметилась эта девушка, из какого далекого мира явилась в наши дни? Что за люди смотрят на нее? Каким спокойным, задумчивым и незнакомым светом полны их лица? Из каких они будущих времен? Почему он еще не видел их, этих людей? Синий, синий свет за экраном…
Старик даже не заметил, когда подменилось его сознание. И кажется ему, что уже давным-давно его нет. Лето и яркое марево коснулись его холмика. Колышутся стрельчатые перья травы, прорастают из прошлогоднего настила прели. Далекие и солнечные ветры идут над ним. А он из своего бездыханного мрака проглянул сюда, в этот мир, который невообразимо светел. Он подсмотрел его оттуда, из-под своего ветхого холмика, на котором истлевали в зелени травы темные грудки креста. Прозрел солнечную толщу лет.. Люди сосредоточенно внимали прекрасному празднику. Старик погостил у них… Сознание вернуло его в темную комнату — озябли ноги. Старик не двигался. На душе его было светло, и он подумал: совсем другие люди наросли… Когда он их просмотрел?.. Среди них он обязательно сейчас узнает своего Леньку.
XXII
Уже спали Семен с Клавой, внуки. У старика сна не было: он воспринимал все приглушенно, в полузабытьи, как в воде.
Ленька в одних трусах пробрался к нему, поднялся на приступку печки. Старик лицом почувствовал близость его губ.
— Деда, — прошептал он. — Ну, деда.
— Что тебе?
— Я решил.
— Что? — старик ничего не мог сообразить.
— Задачку.
— Какую?
— Про мужика и про камни. Ну, деда!
— Ну… — старик проснулся, память его прояснилась.
— Один пунт камень, три пунта…
— Фунта, — поправил старик и стал рукой искать Ленькину голову… — Ну…
— Девять… и двадцать семь… Деда, проверь. Все составляется… От одного до сорока…
Волосы у Леньки мягкие, как пух ковыля. Старик пригнул его голову поближе к своему лицу и сказал:
— Ночь, а ты не спишь. Вот отец встанет, тебе поддаст.
— Деда…
— Ну?.. Лезь сюда.
— А я приемник не своровал. Это мы его временно разобрали. Втроем… Будем катушку перематывать.
— Какую катушку?
— Ну, там… В схеме. Он будет больше станций брать.
— А березку ты правда срубил?
— Это мы на мачту, деда. — Ленька покаянно вздохнул. — У нас мачта мала, а мы хотели высокую поставить.
— Зачем высокую-то? У вас уже есть. — Старик окончательно проснулся, ощупывал тощенькую спину Леньки.
— Деда… А мы в яме живем.
— Это что?
— Ну… Местность такая… Везде высоко, а у нас — блюдце. Волны над нами пролетают. А если к одной березке другую березку привязать — дружка на дружку — и поставить, вершина в самые волны вонзится.
— Как ты ее удержишь?
— А растяжками.
Старик надолго задумался.
— А какие они у радио, волны-то?
Ленька помолчал.
— Деда, знаешь… А я не знаю…
Ленька смотрел в окно. Глаза его ловили тайный ночной свет. Старик долго молчал.
— Какую березку-то срубил? Их всего три было. Самую высокую? Тоненькую?
— Тоненькую, — признался Ленька.
Ленька не шевельнулся, а по телу его прошел нервный трепет, отмеченный рукой деда.
— Березку-то… Прежде чем ставить, вы потешите.
Старик бережно стал слушать ладонью беспокойное тепло худенького тельца.
1972
ДИМКА И ЖУРАВЛЕВ
Когда последний отзвук его голоса тихо замер над прекрасной рекой Истрой, я сказал:
— Папа, это хорошая песня, но ведь это же не солдатская.
Он нахмурился:
— Как не солдатская? Очень даже солдатская! Ну, вот…
Из А. ГайдараКак он мог забыть? Вчера загадал сходить за удилищем в согру — на реке тальниковые, короткие, а в согре, между кочками, недавно видел тонкие березки с коричневой кожицей. Ветки на них только на вершине. Такие удилища до середины Ини достанут.
Димка весь день строил самокат. От березы отпиливал большие, тяжелые, с бледными кольцами колеса — на жаре от них ладошкам прохладно. Крепил коленчатую ось скобками. Катался на самокате в ограде. И вот… вспомнил. Отрезал от булки горбушку, нашел ножик-складешок и выскочил на улицу.
Подходили сумерки. Луна еще где-то далеко, за лесом. Димка знал, как она появляется. Небо, и всё в деревне, уже ждало ее.
Димка мысленно проследил, как он перебежит дорогу, у школы завернет за угол огорода. Спустится вниз по тропке мимо зарослей репейника с молодой крапивой.
В самом низу, у кочек, за непролазным камышом и дудками, высокий частокол березок.
Димка согнет стволик одной березки у самого комелька, резанет по горбику, березка и обмякнет. Останется только ее жилки дополоснуть. И с нею по просеке в камышах — на гору.
Но Димка не сходит с крыльца. За низкой далью согры в осветленном небе показался горячий краешек луны, и сразу на мгновение на землю свалились сумерки. Луна росла, тек по согре свет. Димка знал, что еще не спит деревня, но не было в ней ни звука, ни движения — оцепенение. Димку притягивала безбрежность согры. За серебристыми кустами и крышами колхозных амбаров согра сияла оранжевой дымкой.
Димка что-то ждал, что-то предчувствовал.
И тогда в тишине над деревней раздался он, этот хохот. За лето уже второй раз. Именно в это время между вечером и ночью.
— Б-гы, — неожиданно начинал кто-то в согре бараньим блеянием. Голос нарастал, растекался.
— Ха-ха-ха-ха! — падало на всю деревню раскатистое и жуткое. Ликовал хохот, замирал мгновенно и… слушал темноту. Казалось, он был везде, и тишине после него не хотелось доверять.
Минут через десять хохот опять повторился.
Матери все не было — она доярка на ферме. У Димки сжималось сердце и становилось холодно голове.
Он вспомнил, что уже темно в сенцах, а через них нужно проходить. Там прорези в стенах светятся глазами.
Димка не может уяснить для себя, чего он боится в темноте. Если представить четко виденные лицо с полузакрытыми глазами и застывшие руки покойника, страх уменьшается. А неопределенность темноты полна страха.
На дороге раздался топот коней, мальчишечья ругань и хлесткие удары бича.
— Куда, куда, бестолочь!
В темноте по краю неба, мимо кольев, носилась фигурка верхового.
— Куда! — кричал Журавлев, сбивая коня с бега, запрокидывая ему голову, накренясь, хлестал бичом по траве, перехватывая лошадей.
И топот уносился в переулок за огороды.
Раньше, когда мужики не на фронте, а дома были, они лошадей сами на луга отводили. Сейчас женщины распрягут кое-как и тут же на дороге бросят. Журавлев верхом собирает их и угоняет пасти в ночь. Один. Димка садится на крыльцо.
А ведь Журавлев весной с ним в четвертом классе учился.
Анна Ефимовна объясняет задачу. Журавлев ее не слышит. Журавлев смотрит на картину над классной доской: «Сибирская тайга». Деревья в снегу. Охотник в желтом полушубке целится в черную птицу на ветке, и рядом рыжая собака с открытым ртом подняла морду.
«Попадет или не попадет?» — всегда думает Журавлев.
Все ему кажется, что ствол ружья чуть-чуть выше птицы поднят. А далеко в глубине леса золотые стволы деревьев. Охотник прошел, а следов нет: все белый снег и снег. Наверно, до пояса. Ни разу такого леса Журавлев не видел, а тоже в Сибири живет.
Он лег подбородком на руку. Вторая рука на тетради. Мятый рукав рубашки задрался, и сразу видно, что Журавлев снегом умывается, — ладошка чистая, а выше темная полоса в заветренных цыпках. Поэтому у него всегда и тетрадки грязные.
Его сосед Сережка Грудцын крадучись достает из кармана кружочки сушеных яблок и, прежде чем положить в рот, намеренно задевает Журавлева. Сережка размягчает яблоки во рту до резиновой мягкости, потом жует и проглатывает.
Журавлев не обращает на него внимания. Сережка нащупал в кармане самый большой кружок с завернутым ободком, протянул его под партой Журавлеву.
Журавлев давно хотел попробовать, они сухо и сладко пахли рядом, и намерился кружочек взять, но Сережка отдернул руку, положил кружочек в рот, поулыбался и сжевал. Затронув Журавлева локтем, вытащил сморщенную, в глубоких складках грушу, протянул в сторону Журавлева, держит на весу.