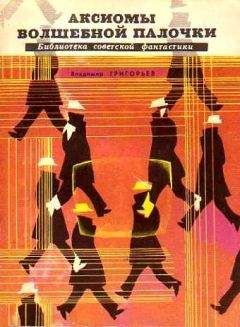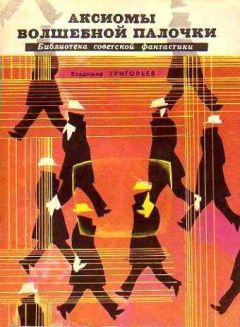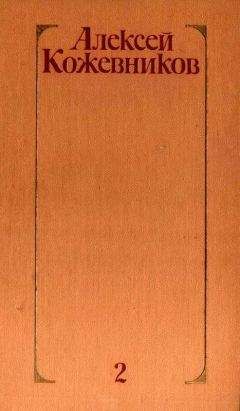Алексей Кожевников - Том 1. Здравствуй, путь!
Выдался перерыв. Оленька, уже сильно уставшая, отошла от аппарата и прислонилась к окну. Ей хотелось сообразить, что такое происходит с людьми, отчего они все злятся и читают ей нотации.
«Ну, прервала, ну, дала другому. Надо же понять, что Джунгарский не всегда слышно, а когда есть убитый, нужен врач», — раздумывала она.
Позвонили Козинову из драмкружка, затем ему же позвонил завхоз.
— Он занят, — ответила Оленька завхозу.
— Нельзя ли поскорей, у меня важное, — попросил он. — С кем говорит Козинов. С кружком… провозится до утра, народ разговорчивый.
Завхоз оказался прав, кружок продержал Козинова у трубки двадцать минут. Завхоз говорил о проявлениях национальной розни между русскими и казахами, живущими в одной палатке. Озорные русские ребята пришили сонных казахов к матрацам и одеялам. Шутка невинная. Но казахи обиделись и собрались уходить с дороги.
— Вот, вот, — вслушиваясь в разговор, ворчала Оленька. — Двадцать минут проболтали о кружке, а казахи тем временем, может, ушли. Вот вам, получайте. — Девушка никак не могла примириться, что национальная рознь шла после драмкружка. — Плоха я, ну казахи и уйдут.
Пришел комендант с телефонисткой, которую сменила Оленька.
— Вы больны? — спросил он Оленьку.
— Нет, здорова, — ответила девушка, удивленно поглядывая то на коменданта, то на подругу.
— Тогда вы хулиганите. Идите домой, завтра утром ко мне, в контору!
— Я, нет… я думала… — Оленька хотела сказать, что она старалась упорядочить разговоры, но комендант оборвал ее:
— Думала?.. Здесь нельзя думать, здесь надо работать! Сейчас идите домой, а завтра утром в контору!
— Ну, что вы там думали? — довольно мирно спросил комендант перепуганную, с синими подглазицами (она проплакала весь остаток ночи) Оленьку. — Расскажите!
Задыхаясь от обиды и волнения, она изложила свой взгляд на роль телефонистки в строительстве.
— Вы это как, серьезно или шутя? — Комендант придержал готовый вырваться смех. — Вы нашли недостатки в системе телефонных разговоров и решили исправить ее?
— Да, я исправляла.
Комендант крикнул на всю контору:
— Вот талантливая девушка! Она изобрела новую систему телефонных переговоров. — Он вперемежку со смехом передал слова Оленьки, затем похлопал ее по плечу и строго, как разговаривал с провинившимися шоферами или десятниками, сказал: — Этого нельзя, это вредительство! Твое счастье, что ты не понимала, что делала. Становись на дежурство и забудь свою систему!
Вдохновенное участие телефонистки Оленьки в строительстве в тот же день стало известно всему городку и многим дало уйму здорового смеха: а мы и не догадывались, где наши энтузиасты и новаторы. Оказывается, на телефоне.
Елкин, узнав, что дочка проштрафилась, не зло пожурил ее и посоветовал:
— Будь осторожней. У нас дело, и забавляться им недопустимо. Дело надо уважать.
— Я хотела лучше. Как обидно, когда болтают по пустякам, а с чем-нибудь неотложным ждут.
— Пока что неизбежно, несовершенство техники. Если дать телефонистке волю регулировать переговоры, тогда телефонисткой на нашем участке должен быть кто?.. Весь управленческий аппарат. Я тебя, дурочка, понимаю, ты хотела оживить свои тяжелый однообразный труд творчеством. Это не просто, нельзя вот так, по-твоему.
— А теперь мне будет скучно, — пожаловалась Оленька.
— Утешайся тем, что есть. Скучно? Напиши-ка Ваганову, как ты орудовала. Ему, верно, тоже скучно.
Оленька написала и в ответ получила многократно повторенные: «Ха-ха-ха!» и «хо-хо-хо!». В уединении телефонной будки она долго разглядывала кресты и колеса (хо, хо, хо), начертанные Вагановым, потом и сама посмеялась над своим вдохновенным усовершенствованием телефонной связи. Желание внести порядок в стихию телефонных переговоров она заменила стремлением к безошибочной быстроте.
Дело с казахами-землекопами наладилось, все перешли на сдельщину, лишь новички первое недолгое время работали поденно. Им сами же казахи — опытные землекопы — неустанно твердили, что сдельщина лучше поденщины. Сколь ни старайся, на поденщине больше двух рублей не заработаешь, а на сдельщине можно пять. Но хорошая сдельщина требует: работай, как бригады Тансыка и Гонибека, которые устроили земляную байгу. На работе закрой глаза на все, гляди только на лопату и землю. Когда приходят грабарки или вагонетки, сперва нагрузи их и потом уж завертывай цигарку. Если устали руки, ноги, болит спина — все равно работай.
Настало время продвигать казахов выше по рабочей лестнице, и бригаду Тансыка перевели с земляных работ на скальные, вместо насыпи земляного полотна — убирать камень из выемки, рассекающей узким коридором Чокпарский горный перевал.
Выемка жила многообразно, шумно, а для казахов, которые были тут новичками, непонятно и даже грозно. В самой голове ее стояли три компрессора. Им на зиму были устроены камышитовые избушки. Они отапливались несравненно лучше, чем палатки и юрты рабочих, чем даже контора. Компрессоры сердито гудели, рычали, лязгали железом. От них по скалам тянулись гибкие, как змеи, резиновые шланги, по которым компрессоры подавали сильно сжатый воздух в бурильные молотки.
Девять человек рабочих-бурильщиков, каждый с бурильным молотком, были тем передовым отрядом, который вел первое наступление на гору. С частым стуком, скрежетом и визгом, точно в злобе и ненависти, бурильные молотки ввинчивали свои стальные жала — буры — в твердые скалы. Летели каменные осколки, брызги, пыль. Молотки сильно дрожали, встряхивали рабочих с головы до пят. Дул свирепый, оголтелый зимний курдай. Чтобы держаться на скалах, рабочие привязывались к ним ремнями и веревками.
Эти люди казались Тансыку особыми, сверхлюдьми. Крепкорукие, с пропыленной, темнокаменной кожей, они молча, спокойно двигались вперед. Ни разу не видал он, чтобы кто-то из них прикрыл лицо от ветра, поежился от холода, растерялся перед высотой и крутизной скал. У них были малоподвижные, редко мигающие, бесстрашные глаза, уверенная твердая поступь.
За этим передовым отрядом шел второй, взрывники. Они набивали взрывчаткой дыры, сделанные бурильщиками, и протягивали к ним подрывные шпуры. Это был совсем другой народ — беспокойный и требовательный. Они то и дело кричали:
— Не ходи туда! Убирайся оттуда!
Тансык не любил их: они мешали ему интересоваться и узнавать, как и что происходит на выемке, они требовали, чтобы он безотказно и немедленно исполнял их волю. И не только он, у них была огромная власть. Когда они давали команду: «Будем рвать!» — компрессоры умолкали, тепловозы и вагонетки уходили, бурильщики со своими молотками и все другие рабочие прятались по местам, какие указывали им взрывники. После этого наступал момент полной тишины.
И вдруг раздавался гром обычно в несколько таких сильных ударов, что земля широко возле выемки вздрагивала. Затем пробуренные скалы разваливались, над ними высоко поднимались тучи осколков и пыли. Ветер подхватывал пыль и мчал вдоль по выемке. Во время следующих один за другим громовых ударов Тансык невольно начинал оглядывать себя — жив ли он, при нем ли руки и ноги, ему все казалось: вот-вот разорвет его и разбросает наподобие камней.
Когда грохот взрывов затихал и взлетевшие в воздух камни упадали наземь — приостановленные работы возобновлялись: бурильщики принимались сверлить дальше, взрывники — готовить новые взрывы, экскаватор, тепловозы, каждый с составом пузатых емких вагонеток, убирать раздробленную гору.
Машины трудились упорней, чем люди. Экскаватор день и ночь, почти непрерывно, с коротенькими остановками только на то время, когда около него менялись люди, хватал своим железным ртом взорванную породу и переносил из отвала в вагонетки. Насыпав весь состав до краев, он давал короткий, но резкий, повелительный гудок. Тепловозик, откликнувшись экскаватору тоже коротким послушным гудком, немедля увозил ненужный здесь грунт в такие места, где нуждались в нем. На смену ушедшему тепловозу подходил другой, с пустыми вагонетками.
Тансыку было жалко эти маленькие машинки. На них постоянно гукал экскаватор, не довольствуясь этим, покрикивали разные работавшие на выемке люди: «Даешь! Уходи! Убирай поживей свой хвост!» Тспловозики суетились, тяжело дышали, либо толкали, либо тянули свои вагонетки, старались угодить всем требовательным крикунам. Глядя на их нелегкую жизнь, Тансык думал: «Замучили, загоняли бедных», — и с неприязнью косился на огромный, кутавшийся в черный нефтяной дым экскаватор. Этот сердитый великан никому, даже и себе, не давал покоя. Переглотав одну раздробленную гору, он требовал немедленно другую. Ночами для него зажигали по выемке огни.
И к машинам и к людям при них у Тансыка было одинаковое отношение: люди казались ему немножко машинами, а машины — немножко людьми. Они переговаривались между собой на своем особом языке гудков, шумов, знаков. У машин Тансыка поражала людская разумность движений: экскаватор всегда брал нужную землю, аккуратно выбрасывал ее в вагонетки; тепловозы знали места остановок, понимали команду и людей и экскаватора.