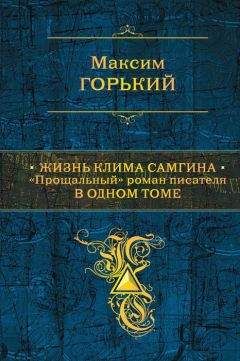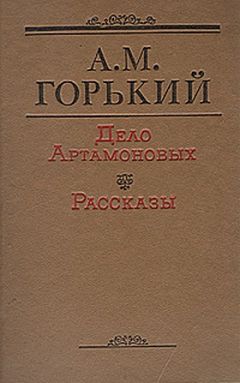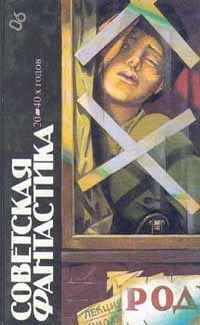Максим Горький - Антология русского советского рассказа (30-е годы)
И тогда, когда понялась широта рождения, или, может быть, раньше, когда было больно и страшно, или позже, когда слишком сильно кричали женщины, — справившись физически, не справилась с нервами, шумело в висках, вскакивал пульс, высыхали глаза, — тогда ночами, в нескончаемых криках женщин, путалось понятие времени, путалось понятие самой себя, и казалось, что все это я, и вчера, и сегодня, и завтра, всегда все я рожаю, кричу, — все повторялось, повторяется и будет повторяться из века в век, всю жизнь человечества. И этот нечеловеческий крик — не крик, а вой, визг, мычанье, и боль и страх, — и родившиеся маленькие, одинаковые, крикливые, — мне казалось, что все это — я. Я кормлю всех этих крикунов, мальчиков, девочек, черненьких, беленьких, и не уйти, не справиться, и не хватит сил. И по ночам сохли глаза, и постель вымокла моим молоком. И встал по-новому образ женщины, человека, рождающего человека, и возникало ощущение несправедливости, — почему социальна война, а рождение человека, человечества — мало достойный внимания физиологический акт или, по определению идиота, «физиологическая трагедия женщины»!
И еще. За жизнью, за бытом, за нашей эпохой ушло и потерялось феодальное ощущение рода, крови, корней. Я боролась с ними. У феодалов женщина приходила к мужу, ее принимали в род. У меня этого не было. У меня нет рода, который своими корнями давал бы мне жизнь. И оказывается, — мой род не продолжается, — но — начинается, на-чи-на-ет-ся. Он замкнут узким, очень узким и очень тесным кругом, — моим сыном, у которого даже нет отца, — но у этого рода есть преимущество, — он смотрит — не назад, а — вперед!..
Иван Федорович Суровцев отослал свое письмо товарищу Антоновой. В загс, регистрировать ребенка, дать ему юридическое бытие советского гражданина будущего бесклассового общества, они ездили вдвоем, товарищи Антонова и Суровцев. Они ждали в очереди. Суровцев читал объявления. Загс состоял из двух кабинетов и ожидальной. В одном из кабинетов регистрировали рождения и браки, в другом — разводы и смерти. Дома однажды, в глубокую ночь, покормив сына, товарищ Антонова пересматривала свои записки. Она вырвала из венецианской тетради все, написанное в доме отдыха, и сожгла эти листы. Написанное ж в больнице на бумаге, принесенной Суровцевым, она переписала в венецианскую тетрадь.
1934
Юрий Олеша
Три рассказа
Ко мне обратились из Союза советских писателей с просьбой участвовать во встрече тела французского писателя Даби, которое должно было прибыть из Севастополя.
Писатель Даби сопровождал в числе других французских писателей Андрэ Жида в его поездке по СССР. Он заболел в Крыму скарлатиной, болел несколько дней и умер.
Я вышел на перрон Курского вокзала. Это было утром, в девятом часу. Никого из писателей я не увидел. Я пришел первым. Потом появилась группа французов. С ними была знакомая мне девушка. Я знал, что она инженер-химик, и меня удивило, почему она с писателями. Я подумал, что теперь она работает переводчицей, но потом увидел, что лицо и глаза у нее такие, как бывают после плача. Очевидно, смерть Даби была для нее смертью близкого человека.
Она представила меня французам.
Я услышал:
— Мазерель.
Передо мной стоял высокий человек приятного и свободного вида. В его фигуре было что-то общее с нашими художниками.
Оказалось, что он может говорить по-русски.
Я никогда не видел человека, который теперь был мертвым и лежал в гробу. Я не видел его ни живым, ни мертвым.
Поезд опоздал. Мы пошли в ресторан, там нас посадили за особый стол, и мы пили кофе. Наша группа привлекла общее внимание. Нас разглядывали.
Потом подошел поезд. Мы пошли к хвосту и ждали перед товарным вагоном, на дверях которого висела пломба. Мазерель стоял с «лейкой» в руках. Девушка плакала, не стесняясь, на нее смотрели.
Вагон открыли. В темноте вагона, на полу, стоял закрытый цинковый гроб. Передо мной был длинный цинковый гроб, который спускался из дверей вагона узким концом по направлению к ожидавшим его внизу людям.
Мы приняли гроб на плечи и понесли.
Мы несли гроб по перрону. Люди, останавливаясь группами, пропускали нас мимо себя. Мы пересекли рельсы и через особое помещение вынесли гроб на площадь, где стоял грузовик, обтянутый красными и черными полотнищами. Гроб был поставлен на грузовик. Два больших венка были подняты на грузовик и поставлены возле гроба.
Грузовик двинулся. Мы ехали в двух автомобилях сзади.
В одном из кабинетов Дома писателя гроб был установлен, и товарищи Ставский, Лахути, Аплетин и я стали в почетный караул. Потом нас сменили Мазерель и три француза. Я услышал, что принесли венок от французского посольства. Потом я ушел, и все это событие для меня окончилось.
Даби был одним из представителей той западной интеллигенции, которая становится на нашу сторону.
На ленте венка Даби был назван другом Советского Союза.
Некогда нас считали варварами и разрушителями культуры. Теперь мы привлекаем к себе наиболее умных и чутких людей Запада. Они поняли, что будущее мира строится у нас.
Я стоял в почетном карауле у гроба человека, который признал это, видел только цинковые грани гроба и силуэты листьев и цветов. Впереди я видел плачущее лицо девушки. Она видела то, чего я не видел. Она его помнила, и в памяти ее стоял живой человек. Она не могла бы показать его мне, мне невозможно было бы увидеть этого живого человека глазами ее памяти, — то, что она плакала, было для меня единственным изображением его жизни.
Я посмотрел на гроб и впервые подумал о его размерах. Друг девушки был рослый мужчина. Я представил его себе похожим на одного из тех испанцев, которые дерутся сейчас с фашистами, — широкоплечим человеком в берете и с ружьем в руках.
1935
2. ПолетЯ приехал в аэропорт. Мне предстояло лететь из Одессы в Москву.
Я увидел поле, на котором стояло два самолета. Позади них было светлое пространство неба, они казались мне силуэтами, но я видел синий цвет крыльев. Самолеты стояли головами ко мне. Возле них суетились люди.
Я сидел в буфете на диване. Это было очень маленькое помещение со стойкой и несколькими столиками. За стойкой возвышалась гора арбузов зеленой кружевной окраски.
Я заказал себе стакан чаю.
Потом вошел и сел за столик человек в тужурке и фуражке — летчик. Он снял фуражку и положил ее на стол. Я подумал, что это летчик, который будет вести мой самолет. Я стал рассматривать его и следить за тем, что он делает. Ему подали два вареных яйца, хлеб и стакан чаю. Когда он заказывал хлеб, он сказал: «Дайте сто граммов».
Я вышел на крыльцо и смотрел некоторое время на самолеты. Спросили: «Кто на Москву?» Я пошел за дежурным по аэропорту. У него в руке был белый флажок. Со мной шел еще один пассажир — молодой человек в кепке и с портфелем. Он направлялся в Ростов. Со мной он должен был лететь до Днепропетровска. Я из города ехал с ним в автобусе; и тогда уже в его поведении было заметно желание показать, что он летит не в первый раз и что для него это дело привычное.
Когда мы подходили к самолетам, мотор одного из них уже работал. Быстро, но еще оставаясь видимым для глаза, вращался пропеллер. Вращение это создавало серый диск. Очертания пропеллера, подобно тени, то появлялись в этом диске, то исчезали.
Я прошел довольно далеко от места, где происходило это вращение, но оно отозвалось во всем моем теле. Почва тряслась под ногами. Я, сгибаясь, влез в маленькую, как бы вырезанную в декорации дверку.
Сел на заднее место.
В самолете было шесть мест, в этом я убедился позже. При отлете из Одессы внутренность кабины была заполнена почтой — мешками и тюками.
Молодой человек сел впереди меня. Но вдруг бортмеханик, чья спина виднелась впереди, в окне, оглянулся и сказал, что надо сесть сзади. Молодой человек запротестовал. Тогда бортмеханик сказал тоном приказания:
— Так надо.
Пассажир сел рядом со мной. Я понял, что сидеть на передних местах, очевидно, в каком-то отношении лучше.
— Они перегрузили почтой, — сказал мой спутник. Опять он показал свою опытность.
Кабина самолета приподнята. Я сидел в глубине, и почта возвышалась надо мной, и казалось, что она на меня наваливается. Еще выше над этой грудой была видна спина бортмеханика. Другой человек, сидевший рядом с бортмехаником, — пилот — был скрыт чем-то вроде занавески.
Вдруг дверь закрылась, и нас отрезало от мира. Все для меня сосредоточилось в круглом окне, в которое я смотрел. Человек с флажком стоял на серой земле. Потом он отбежал и, опять остановившись, взмахнул флажком. До этого я успел заметить, что выражение его лица несколько секунд было осматривающее.