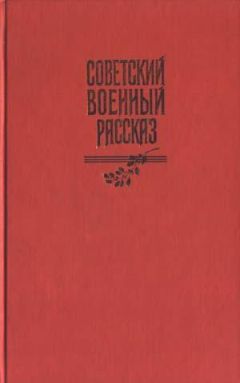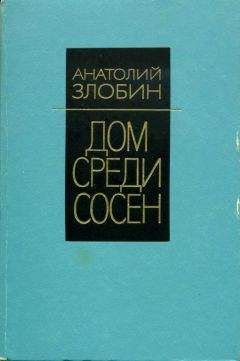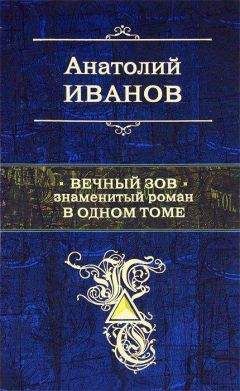Анатолий Иванов - Вечный зов. Том II
— Когда отец повёз её на расправу, Иван этот… Он её любил, видимо. Он поскакал следом, догнал где-то их. Кафтанов ещё не казнил дочь, но остальному Иван помешать не успел… В общем, в схватке Иван застрелил Кафтанова, тело привёз к нам в партизанский отряд. Но я… я не поверил ему. Думал — головой атамана хочет выкупить своё бандитство… В общем хотел я его расстрелять тогда. Но Анна кинулась мне и Кружилину, командиру нашего отряда, в ноги, всё рассказала… Об одном только умоляла — никому никогда не говорить об её позоре. «Иначе, говорит, повешусь…» И тогда мы Ивана просто под суд отдали…
Начальник управления поднялся, грузно начал ходить из конца в конец своего небольшого кабинета, застеленного длинной ковровой дорожкой. За окном палило солнце, било в стёкла, заливало кабинет нестерпимым светом, и полковник задёрнул шторку.
— Ну, а Фёдор… знает, что сделал этот Кафтанов с дочерью?
— Не думаю, — проговорил Алейников не сразу. — Он полагает, что сделал это Иван. Из-за этого у них в семье, я знаю, всю жизнь отчуждённость и слёзы…
Начальник управления ещё раз не спеша, обдумывая что-то, прошёлся по кабинету, остановился напротив Алейникова.
— Значит, то обстоятельство, что Фёдор этот Савельев женат на дочери бывшего кулака и предводителя антисоветской банды, ничего не объясняет… А что же объясняет? И почему теперь ты веришь в честность Ивана Савельева?
Алейников сидел, погружённый в свои мысли, и будто не слышал вопроса.
— Не можете ответить?
— Это трудно, товарищ полковник… Вот я вспоминаю всё, что знаю о них обоих… Об их жизни и поведении ещё до революции и после. Все их слова, поступки, голос, каким они произносили слова, выражение глаз при этом… И всё это окрашивается сейчас для меня другим светом, чем тогда. И я вижу — Фёдор чужой нам человек по духу, по внутренней сути. А Иван — свой. Эту задачку я не мог решить до сих пор. Как и многие другие… И потому я просил в своё время, как вы знаете, освободить меня из органов.
— А сейчас подтверждаете свою просьбу? — Начальник управления сидел за столом прямой и строгий. Он не спеша протянул руку за очками, надел их и стал как-то ещё холоднее, официальное. — Валентика вот этого упустил…
— Сейчас… не подтверждаю, — тихо произнёс Алейников.
Начальник управления удовлетворённо кивнул, пододвинул к себе какие-то бумаги, начал читать их, будто забыв про Алейникова. Тот сидел, покорно ожидая своей участи, своего приговора.
Наконец начальник фронтового управления медленно и тяжело поднял голову. Но проговорил совсем не то, чего Алейников ожидал:
— Не кажется вам, что этот Валентик мог быть агентом Бергера? Или как-то связанным с ним?
— Это… это вполне может быть, — ответил Алейников. — Но данных нет…
— Данных нет, — усмехнулся полковник. — Если бы они были, он, надо полагать, не процветал бы у нас тут столько времени.
Слово «у нас» Алейников сразу же отметил, в душе шевельнулось облегчение.
— Ты его упустил, тебе его и поймать хорошо бы.
— Я готов выполнить любое задание, товарищ полковник.
— А задание тебе будет такое, видимо… Шестоковская «Абвергруппа» в связи с приближением наших войск уберётся, понятно, куда-то подальше, на новое место. Наша задача — не допустить этого, уничтожить её и захватить все документы. У Бергера могут быть ценные документы, касающиеся других групп «Виддера». Как это сделать?
— Сейчас единственная возможность — с помощью партизанского отряда Баландина, — тотчас сказал Алейников.
— Это понятно. Я говорю — подумай, как это сделать, кого из чекистов возьмёшь с собой в тыл… Словом, разработай весь план операции, который мы согласуем с Москвой.
— Слушаюсь, товарищ полковник! — с откровенным теперь облегчением воскликнул Алейников.
* * * *
Решение уйти из органов внутренних дел у Якова Николаевича Алейникова созрело окончательно через несколько месяцев после начала войны. Но мучительные отношения с Верой Инютиной послужили причиной того, что рапорт на имя начальника Управления НКВД по Новосибирской области с просьбой освободить его от работы и отправить на фронт всю осень 1941 года пролежал в громоздком железном сейфе, стоявшем в углу его служебного кабинета.
Последний, неимоверно тяжкий разговор с Верой в тот непогожий осенний день как будто острым ножом исполосовал, искромсал всё в груди, свистевший за окном ветер словно выдул из него всё живое, застудил кровь, ладони стали холодными, как ледышки, и прикасаться ими к собственному телу было противно до омерзительности. На второй или третий день после этого разговора он вспомнил о рапорте, достал его из сейфа, перечитал, разорвал, написал новый, более сдержанный и лаконичный, запечатал в пакет. Однако отправлять в область его не стал, а повёз в Новосибирск сам.
Алейникова принял начальник управления. Он молча взял рапорт, прижал бумагу обеими руками к столу, будто листок непостижимым образом мог улететь, стал читать, склонив лобастую голову. Рапорт он прочёл, видимо, несколько раз, Алейников терпеливо ждал, смотрел, как пошевеливаются складки на широком лбу начальника; наконец тот приподнял голову, в серых глазах его не было ни осуждения, ни одобрения.
— Ну, а причины?
— Причины изложить трудно, — сказал Алейников. — Я просто… просто чувствую, что не способен больше к чекистской работе.
— Что значит не способен?
Алейников вздохнул и произнёс:
— Существует такой термин — моральный износ…
Начальник управления молча усмехнулся.
— Попытайтесь всё же меня понять.
— Хорошо. Я посоветуюсь с секретарём обкома партии Иваном Михайловичем Субботиным.
— Простите, почему именно с ним?
— Потому что меня тоже должен кто-то попытаться понять. Решить это, — начальник управления показал глазами на рапорт, — не так-то просто, не понимаешь, что ли?
— Понимаю, — уныло произнёс Алейников.
— Пока поезжайте к себе и работайте. А если этот вопрос как-то решится, мы сразу сообщим.
Прошёл месяц, другой. Наступила зима, навалило снегу. Невиданное количество снега выпало в последние дни 1941 года. Яков любил ходить по нему, увязая по колено, вдыхая свежий, острый запах мёрзлых тополей и сосен, который будто залечивал рваные раны внутри, разгонял быстрее кровь. Ответа из управления всё не было.
Наконец через неделю после Нового года раздался звонок из Новосибирска. Начальник отдела кадров управления сухо и коротко сообщил Алейникову, что скоро, видимо, будет назначен новый начальник Шантарского райотдела УНКВД.
— А относительно моей просьбы на фронт? И вообще об увольнении из органов?
— По этим вопросам ничего не могу сказать. Сообщим, как что-то решится.
Новый начальник райотдела прибыл одновременно с поступившим приказом об освобождении с этой должности Алейникова. Яков начал передавать дела, ожидая приказа об увольнении из системы внутренних дел, а вместо этого где-то в феврале пришло предписание отправиться в Москву, в распоряжение самого Наркомата. На его звонок в Новосибирск и удивление по поводу такого предписания начальник управления сказал:
— Яков Николаевич, я пытался тебя понять по-человечески и сделал всё, что мог… В Наркомате работает мой товарищ по гражданке Дембицкий Эммануил Борисович, доброй души человек. Мы с ним когда-то под Перекопом барона Врангеля громили. В Сиваше чуть не утонули. Вот в его распоряжение и поступишь… Желаю тебе больших успехов, Яков Николаевич.
Начальник управления помолчал несколько секунд и усмехнулся в трубку.
— Насчёт морального износа, Яков Николаевич… Я тут все справки навёл. По отношению к нашему брату чекисту его не существует. Ну, счастливо тебе.
…Мартовская Москва была залита солнцем, с крыш капало, по центральным улицам, запруженным народом, часто проходили колонны войск, иногда нескончаемыми вереницами шли танки, тягачи с орудиями, бронетранспортёры. Во время воздушных тревог вся техника останавливалась, замирала, улицы пустели… Ночами огромный город погружался в мрак, нигде ни огонька, каменные громады домов казались пустыми.
Майор Дембицкий, круглолицый, горбоносый еврей с лицом, беспощадно изрытым оспой, встретил Алейникова с вежливой улыбкой, но сдержанно, даже настороженно.
— А-а, давно ждём вас, — проговорил он, когда Яков представился по всей форме. — Садитесь, рассказывайте. Значит, решили было из нашей системы уволиться? Почему? Устали?
Дембицкий говорил, а сам всё ощупывал Алейникова с ног до головы, вправо и влево водил горбатым носом, будто заглядывал сбоку и хотел оглядеть даже со спины. Всё это Алейникову было неприятно — и то, что наркоматский этот майор таким бесцеремонным образом изучает его и что ему известно о его рапорте и намерении уйти из НКВД. Но обижаться Яков не обижался, отлично понимая, что в их Наркомате каждый, кому положено, знал о другом абсолютно всё. Дембицкому, значит, было положено.