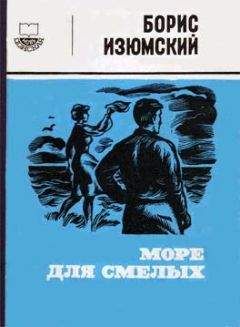Борис Горбатов - Донбасс
— Кто получит? — рассердился Дед. — Этот вот… — мотнул он головой на Виктора, — да этот… — мотнул головой на Андрея, — да еще три-четыре таких же молодых, ловких… А остальные? А все?
— А кто ж остальным мешает хорошо работать? — искренне удивился Андрей. — При нашем методе всем работать легче.
— Вы б, товарищ заведующий, не на отстающих, а на передовиков равнялись бы. Передовиков бы поддерживали… — с обидой сказал Виктор.
— А что вас поддерживать? Вы и так вон какие зубастые! Кто вас обидит? А слабых да сирых, кроме меня, защитить некому.
— А ведь это хвостизм, Глеб Игнатович! — мягко сказал Светличный и пристально посмотрел на Деда.
И тогда, может быть, за долгие годы впервые вдруг взорвался Дед. Он вскочил с места и с дикой силой грохнул волосатым кулачищем по столу.
— А-а! Хвостизм? — прохрипел он. — Готов уж ярлык? Ты, видать, скорый на такие дела… — крикнул он, с ненавистью глядя на Светличного.
Его шея побагровела, да так страшно, что Петр Фомич испугался: вот сейчас хватит старика удар.
— Что вы, Глеб Игнатович! — метнулся он к нему. Но Дед грубо оттолкнул его, он теперь никого не видел, кроме Светличного.
— Хвостизм? — прорычал он. — Ах, ты, ты!.. — ему не хватало ни слов, ни воздуха. Он задыхался. Так вот в чем обвинили его теперь! В том, что он о своих детях, о шахтерах печется? Да! Пекусь! Зато не о себе.
«Мне для себя ничего не надо. Ни каменных палат, ни длинных рублей, ни карьеры, слышь ты, студент?» Он в одной комнате живет. Он все свои деньги раздает людям. Он ничего с собой в могилу не унесет, не бойсь!.. Ни одна чужая копейка еще никогда не прилипала к его рукам. Все им — шахтерне, землякам, детям.
А государство? «Э! — рассуждал он. — Государство наше богатое, не оскудеет».
Государство… Погруженный в мелочные заботы о своей шахте, о своих шахтерах, он редко размышлял о нем. Государство представилось ему огромным золотым мешком; раньше этот мешок принадлежал капиталистам, сейчас принадлежит рабочим. Ради этого и революцию делали, и кровь проливали, и сам Дед свою кровь пролил. И сейчас он, как умеет, служит государству. Ведь не для себя ж он уголь-то добывает! Не хозяйчик же он в самом деле и не приказчик у хозяина!..
Но в глубине своей заскорузлой души, сам того не сознавая, понимал он себя не человеком, поставленным от государства управлять государственной шахтой, а как бы артельным старостой, выборным от рабочих. И, как настоящий староста, норовил он ловко обойти все другие артели и побольше урвать из государственного мешка для своей.
Ему казалось, что именно за это и любят его шахтеры. Не зря же величают и отцом и благодетелем! И он гордился и дорожил этой любовью больше, чем любовью начальства. Пуще всего на свете боялся он, чтоб не упрекнули его в том, что он забурел, зажрался, оторвался от своих. Оттого-то и жил он в одинокой, пустой комнате, и от положенного ему конторского выезда отказался — ходил пешком, и на курорты не ездил, и премии делил поровну между всеми: каждому по крохе, забывая только самого себя…
Однажды, заметив это, заезжий пропагандист из центра полюбопытствовал: «А как вы представляете себе социализм, Глеб Игнатович?» Дед растерялся. Он редко рассуждал на столь отвлеченные темы. Он был малообразованный человек, практик, не инженер; он хорошо знал старую шахту, — но только ее и знал.
«Э… — пробормотал он. — Я как думаю, а?.. Социализм — это чтоб по справедливости… Всем, значит, поровну…» — «То есть отдай голому последнюю рубашку? Так, что ли?» — «Вроде так… — пожал плечами Дед. — Нечего в рубахе-то щеголять, когда голый рядом». — «Д-да… — засмеялся пропагандист. — В общем получается у вас социализм нищих. Не равенство, а уравниловка. Нет, Глеб Игнатович, не так!» И он терпеливо, как школьнику, стал разъяснять ему, как строится социализм в нашей стране и как затем, на базе всеобщего изобилия, будет построен и коммунизм. Дед слушал его молча, не возражал и не перебивал, только недоверчиво качал головой и про себя думал: «Ох, книжники-златоусты! А мы, грешные, на земле живем, в навозе пачкаемся». И хотя и он, как и пропагандист, свято верил в победу коммунизма на земле и за это даже кровь свою пролил, но казался ему коммунизм красивой, справедливой, но такой далекой мечтой, что о ней в практической жизни пожилому человеку и думать как-то совестно.
Ему и невдомек было, что живой коммунизм уже сидел перед ним в образе этих молодых ребят-новаторов, а он гнал его прочь из своего кабинета, да еще обижался, когда за это объявили его хвостистом.
Он вдруг устало и грузно опустился на стул. Сейчас он чувствовал себя только очень обиженным и старым.
Он сказал, ни на кого не глядя:
— Уходите… Все уходите… домой…
Ребята торопливо схватились за кепки, им самим не терпелось поскорее уйти. Уж больно страшно было глядеть на багрово-черную шею Деда и слышать, как он хрипит и задыхается.
Но тут вдруг поднялся оскорбленный Прокоп Максимович. Ни налитая кровью шея Деда, ни его гнев, ни его власть не испугали его. Он выпрямился во весь рост и сказал с обидой, но и с достоинством:
— Хорошо. Пусть будет так. Но точку на этом разговоре я не ставлю. И с тем до свиданья. А продолжим мы наш разговор, товарищ Дядок, — прибавил он, чуть повышая голос, — на партийном собрании. Как коммунисты будем говорить. Потому разговор наш не простой. Идем, хлопцы! — крикнул он и вышел, сильно хлопнув дверью.
11
Даша нетерпеливо ждала возвращения «делегации» от Деда. Несколько раз выбегала к калитке, смотрела на дорогу. В сумерках каждый прохожий кажется тем, кого ждешь; каждая новая ошибка приносит уже не разочарование, а тревогу.
«Что ж они так долго у Деда? — беспокойно думала Даша. — К добру это или к худу? Неужели Дед не согласится? Что же будет тогда?» «А ничего не будет! — думала она уже через минуту. — Будут работать, как раньше работали, только и всего!» Но она знала, что «как раньше» уже не будет, не может быть, а как теперь будет — не знала и потому металась.
Она одна была со своей тревогой, одна во всем поселке. Никто на шахте не знал, зачем пошли к Деду закоперщики; никто об этом и не думал. И не гадал никто, что в эту минуту, может статься, решается рабочая судьба каждого.
Поселок жил своей обычной жизнью, сумерничал. Наступал тот тихий вечерний час, когда люди, вернувшись с работы, думают уже только о себе и о своем, — час позднего шахтерского обеда и послеобеденного отдыха. Все собираются вместе под акацией. Набегавшиеся за день дети послушно и устало приникают к мамкиным коленям. Сонная Жучка забивается в свою нору под крыльцом. Куры прячутся в сарайчике. Все прибивается к своему затону.
С холмов в поселок возвращается шумное козье стадо — крупный рогатый скот шахтеров. Козочки, дробно стуча копытцами, резво, как школьницы после уроков, разбегаются по своим дворам и сразу из безыменной и бессловесной скотины превращаются в милых Манек, Дусек, Белянок — любимых подруг шахтерской детворы. Даша видела, как в соседний двор верхом на Маньке-козе торжественно въезжала Манька-девочка; рядом, осторожно придерживая ребенка за плечи, шел отец. И все были счастливы: и ликующая девочка, и сытая козочка, а больше всех отец, усатый проходчик из знаменитой бригады Федорова. Но сейчас он был не проходчик, и не шахтер, и не знаменитый ударник, — он был просто счастливый отец.
В этот час во всем поселке дружно закипают самовары, словно в сотнях маленьких доменных печей поспела плавка. Самоварный дымок низко-низко плывет над плетнями и палисадниками, и сладкий запах древесного угля напоминает шахтерам не забои, где целый день рубились они в каменном угле, а детство: лес, костры в ночном, туманы над рекой… В этот час в каждом, даже самом оседлом шахтере, вдруг просыпается позавчерашний крестьянин или даже внук крестьянина. Властно тянет к земле. На этот случай у шахтера есть огород, или клумба с цветами, или просто узенькая полоска вскопанной земли вокруг хаты. И дотемна ползают по грядкам пожилые забойщики, крепильщики и машинисты, сосут погасшие трубки, возятся около кустиков, дышат младенческими запахами рассады и в этом находят свой отдых…
В этот час незримо, неслышно и вдруг расцветает у порога ночная фиалка. Могучий аромат ее внезапно разносится над поселком, все покрывая собой. Он, как сигнал, как звук боевой трубы, стучится в окна общежитий и бараков и всех приводит в смятение. Девчата, откатчицы, сортировщицы и плитовые, начинают метаться по комнатам. Они уже сняли свои шахтерские робы — жесткие куртки и брезентовые штаны — и превратились в обыкновенных девушек — тоненьких и беленьких, нетерпеливо готовых к счастью. Теперь они носятся по коридорам, наскоро гладят в сушилках свои ленточки, бантики, блузки, «плоются» единственными на все общежитие щипцами или раскаленным гвоздем и выпархивают легкими стайками из общежития: идут «страдать» на Конторскую улицу, как еще недавно ходили «страдать» на колхозную леваду…