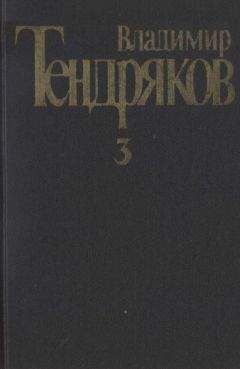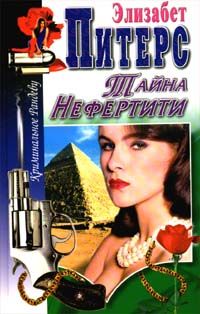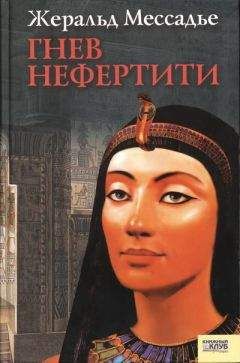Владимир Тендряков - Свидание с Нефертити
— Вот это — честный талант, не подделка… Вы не помните, что сказал Антон Павлович Чехов по поводу декадентов?.. Нет?.. «Декадентов не было и нет, жулики — гнилым товаром торгуют». Так вот ваш товар, господин Пикассо, с дурным душком.
Федор боялся взглянуть на Слободко. Не глядел он и на свой холст, не глядел, но знал его наизусть, как зазубренный параграф из устава караульной службы. Он все время недоволен был своей работой, от нее тянуло тоской.
— Мы не допустим в стенах института низкопоклонства перед деградирующим искусством Запада… Вы, наверное, догадываетесь, что мы в случае крайней необходимости можем не ограничиться одними нотациями. Лучше отсечь гнилой аппендикс, чем допустить воспаление всего организма. Вот так-то…
Директор кивнул холодно Слободко, не доглядев остальных работ, со вскинутой высоко головой и расправленными плечами, как человек, выполнивший свой долг, прошествовал к выходу. У Валентина Вениаминовича, следовавшего за ним, протез безжизненно свисал вдоль тела.
Перед молчаливыми испытующими взглядами пожелтевший, казалось, осунувшийся за эти минуты Слободко побрел к своему мольберту. Никто не брался за кисти.
Слободко взял из этюдника мастихин, сначала тупо уставился на холст, поднял руку и с ожесточением провел — раз, другой, сдирая краску… Снова уставился…
Стояла тишина. И Слободко не выдержал, рывком обернулся:
— Ну что вы все глаза вылупили?! Что?! — И, не стесняясь присутствия девчат, площадно выругался.
Иван Мыш, стоявший неподалеку от Федора, аккуратно, чтоб не запачкаться, положил на стул грязную палитру, вытер тряпкой руки, степенно направился к Слободко, поскрипывая сапогами, оправляя под туго стянутым ремнем гимнастерку.
— Ты где это находишься? — строго спросил он.
Слободко недоуменно глядел ему в переносицу.
— Сам виноват. Получил… Давно пора покончить с дешевыми выкрутасами!
И Слободко оскалил стиснутые зубы, шагнул на дюжего Мыша, сам дюжий, плечистый, на расстоянии чувствуется — трясущийся от бешенства. В руках его был большой, как столовый нож, мастихин.
— На десять шагов от моей работы. На десять шагов, сволочь!
Иван Мыш попятился.
6Иван Мыш давно уже не тот неприкаянный студент, который жаловался четыре года назад: «Все в куче, я в стороне».
С легкой руки Федора он стал профгрупоргом. Оказалось, он не лишен способностей — умел выстаивать в кабинете заместителя директора до тех пор, пока тот не подмахивал нужную бумагу. Внушительная наружность совмещалась у него со скромностью, никому и в голову не приходило уличить его в назойливости, накричать, выгнать из кабинета. Все нагрузки он выполнял добросовестно, без громких слов, без жалоб. Иногда он жаловался, но не начальству, а, так сказать, в лицо обществу, на собраниях.
— Товарищи! Назову следующие фамилии задолжников…
И называл. За это не обижались.
Он часто оказывал мелкие услуги — доставал разовые талоны на обеды, хлопотал перед кассой взаимопомощи. Его услуги принимались всеми как должное. Лева Православный щеголял в новых брюках, купленных на ордер, выхлопотанный Иваном Мышом. Щеголял, забыв сказать спасибо.
Однажды Иван Мыш завел разговор с Федором и Вячеславом:
— Хлопцы, вы хорошо меня знаете?
— Как облупленного.
— Вы же ничего плохого обо мне сказать не можете?
— Можем.
— Что?
— Храпишь по ночам громко.
— Я, хлопцы, серьезно… Хочу у вас просить рекомендацию в партию…
И Федор и Вячеслав написали эти рекомендации.
А через несколько дней они уже слушали на собрании как Иван Мыш рассказывал свою автобиографию. Год рождения — 1922-й, учился в ремесленном, работал, служил в армии, родители погибли во время оккупации, в семье репрессированных нет… Обычная жизнь, не из очень легких, но и не из самых трудных — нельзя за нее ни похвалить, ни осудить. Приняли единогласно в кандидаты…
А года через полтора Иван Мыш был уже членом институтского партбюро, стал ездить на совещания в райком партии.
Увидев однажды его рослую, представительную фигуру, его лицо, крепкое, мужественно красивое, — лицо славянина, сразу запоминали. Запоминалась и его короткая странная фамилия.
На торжественную встречу с зарубежными работниками культуры приглашалось ограниченное число лиц. Инструктор горкома, которому была поручена организация встречи, вспоминал Ивана Мыша: студент, из низов — следует внести в рекомендательный список. И Иван Мыш на торжественной встрече сидел за столом бок о бок, как равный, с директором института. А заместитель директора не удостоился чести.
Иван Мыш любил работать маленькими кистями, зализывая мазочки, трудился не разгибая спины, от звонка до звонка — ювелирничал на холсте. На курсе ходил термин: «Мышиный стиль».
По-прежнему он занимался выпиливанием и вытачиванием — золотые руки! Поломанную массивную авторучку они превращали в зажигалку, алюминиевый кухонный половник — в настольную лампочку-ночник. Золотые руки, ни на минуту не остающиеся без дела! Но в них никто и никогда не видал книги, кроме разве как учебника перед сессиями.
Еще в начале второго курса между Иваном Мышом и Вячеславом произошел разговор:
— Вот вы все говорите — Декаданс, Декаданс… А в каких годах жил этот Декаданс?
Вячеслав, вскинув взгляд на простодушную физиономию Ивана Мыша, ответил не дрогнув:
— Родился приблизительно в тысяча восемьсот шестидесятом году.
— И жив до сих пор?
— Жив курилка.
— Девяносто лет? Ну и ну! Песок, верно, сыплется.
— Нас с тобой переживет.
— Вот ведь фигура, только о ней и слышишь… Что же он сделал такого?
— Занимался растлением малолетних.
Теперь — четвертый курс, Иван Мыш вырос, уже представляет себе, что этот декаданс — не похотливый старик с бородой, на собраниях, к случаю, внушительно громит порочное течение, предостерегает от его дурного влияния, чем всегда чуть не до слез умиляет Вече Чернышева:
— Спец, ничего не скажешь.
К Слободко Иван до сих пор относился с опасливой настороженностью — кто его знает, может, безобидный юродивый, а может, гений, любое коленце жди — выкинет.
7Комната общежития. Тумбочка-столик Ивана Мыша с крохотной лампочкой, освещающей только руки. Кучи книг на столе рядом с прокопченным чайником. Штанина грязных кальсон с завязками из-под койки Православного… Комната общежития — ночи в остервенелых спорах. Комната общежития — гостеприимный дом, заходи любой, если ты голоден — хлеб пополам, если ты опоздал на метро — уступят часть койки, не обессудь, в тесноте — не в обиде, не комфортабельная гостиница. И не пансион благородных девиц — могут облаять не за будь здоров.
В комнате общежития обычно горячая атмосфера сегодня падает к нулю. Вячеслав лежит с упрямым и сердитым лицом. Федор тоже лежит и, заломив руки за голову, смотрит в потолок. Лева Православный то встает, то садится на койку. Нет шума, но нет и согласия — неуютность. Только Иван Мыш привычно сутулится над своей тумбочкой, и его широкая спина с выпирающими массивными лопатками, как всегда, невозмутима.
Православный уныло бубнит:
— Я понимаю тебя, старик. Левка не прав. Но ведь его едят, а тебя… Что скрывать, тебя да Федьку по головке гладят. Вы оба — надежда института…
Вячеслав молчит. Православный косится на него с осуждением, вздыхает:
— Не-хо-ро-шо-о. У меня вот пакостно на душе, а у тебя? Или тебе все равно?
Вячеслав молчит.
Федор потянулся на койке, хрустнул суставами:
— Эх, баррикады! Бои петушиные…
И Вячеслав окрысился:
— Не строй из себя святошу. Ты бы тоже не снес — влепил. Непротивленцы толстовские…
Федор скинул ноги на пол:
— У меня есть двадцать пять рублей!
Православный оживился:
— Дело! Только у меня, старик, карманы заполнены межпланетной пустотой.
— Пошли, Вече, — приказал Федор.
— Куда?
— Отыщем Левку, выпьем с ним. Ему плохо, да и тебе не медок.
— Не пойду.
— Гордость не позволяет?
— Хотя бы.
— Ну, а мы пойдем.
— Эврика! — завопил Православный. — Идем к Милге! Левка может быть только там! Там и выпьем, там и поговорим! И деньги твои, Федька, при тебе останутся.
— В благородный дом с семейными дрязгами? Что ты, отче?
— Ну тогда вытащим от Милги! Он там! Мамой родной клянусь! Вытащим и заменим благородный дом дешевой забегаловкой!
Федор и Православный ушли. Вячеслав и Иван Мыш остались.
На звонок открыла дверь жена Эрнеста Борисовича.
— Ах, это вы! — И отступила в сторону. — Что же, входите.
Глядит пристально, как-то смятенно, зябко кутается в пуховый платок — полная немолодая женщина; наверно, ей изрядно досаждают причуды мужа, крикливые споры с подозрительными молодцами — кандидатами в гении.