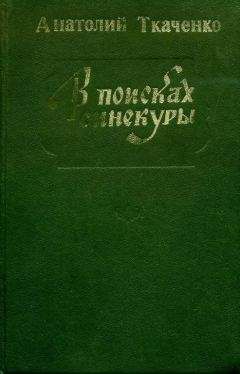Борис Пильняк - Том 3. Повести. Рассказы. Корни японского солнца
Мои дела начались с Фузаца. В тот момент, когда я шел за безмолвным носильщиком, мне в глаза вник и меня остановил низенький человек, в шляпе, в европейском пальто, сидящем на нем так же, как на мне сидело бы кимоно.
— Ви — русский, ви говорите по-русски, ви грамоцный? — спросил он меня сурово, по-русски.
— Да, я русский, — ответил я.
Тогда он стал вежливым, поклонился в пояс, зашипел и сказал:
— Ви — Бируняку-сан? Ви японский визит? Я ситар в газета.
Он разыграл, что случайно читал обо мне в газетах, поэтому знает.
— Ви — писи-писи? — ритерацура?!
— Да, литератор, пишу.
Чемоданы мои были где-то. Ину повел меня на пароход, он, видите ли, гуляет, и он очень любезен. Организованность у японцев прекрасная, мои чемоданы без меня уже лежали в моей каюте. И сейчас же за мною в мою каюту вошел ину, без всякого, конечно, спроса, сел, вынул листки бумаги и, — без всякой любезности, с катастрофически-идиотской скукой, с трудом, как если бы я иероглифами, — стал писать.
— Ви Бируняку-сан? ви грамотный? ви писи-писи ритерацура?
Допрашивал, как во всех на Земном Шаре участках. Объяснил, что он «полицейский», агент особых поручений при фузанском губернаторе, — и стал со мною разговаривать о том, о сем, ловить, не зная языка, расселся удобнее, собака. Я стал соображать, что он поплывет со мною в моей каюте до Симонэсеки, сказал ему:
— Вы бы ушли отсюда, здесь женщина едет, ей надо переодеться.
Когда японский никтошка не хочет отвечать, он делает вид, что не слышит и не понимает.
— Вы, что же, поедете со мною до Симонэсек?
— Нет, там вас другой полиценский встретит.
Мой ину ушел с парохода последним. С ним я встретился еще раз, возвращаясь из Японии, — он встретил меня, как старого знакомого, — он был гораздо живее, совсем хорошо говорил по-русски, беседовал о «ритерацуре», спросил:
— Как вам японская полиция?
Я ответил чистосердечно, что японская полиция произвела на меня впечатление идиотское. Он рассмеялся и сказал:
— Да, знаете, соверсенно собасья дозность!..
Цусимский пролив — прекрасен, и пароходы у японцев там ходят отличные, и в третьем классе на пароходах, сообщил мне мистер Смит, общая для мужчин и женщин купальня. Но мне было ни до красот, ни до качеств и фольклора. В Симонэсеках встретили меня — уже не один, а с полдюжины ину. В шипении и в отчаяннейшей, непреклоннейшей вежливости одни записывали имя моей бабушки, другие диктовали мне «Объявление», в коем «я, нижеподписавшийся», обязался не нарушать японских правил общественного порядка и не заниматься коммунистической пропагандой. Под надзором ину я ходил в сортирчик. Ину повел меня в ресторан. Ину взял мне билет. Несколько ину втолкнули меня в пустой вагон, где лежали мои чемоданы, — и рыться в вещах ину, шипя из уважения к вещам, могут гениальнейше, по способу Синоби.
Я был совершенно трезв, но я сам себе казался тем кинематографическим пьяным, который спасается от сорока полицейских. У меня не было ничего нелегального, все документы у меня были в порядке, ехал я, в сущности, по приглашению японской общественности, по приглашению японских газет.
Меня обыскали, перерыли мои вещи, ко мне приставили конвой, — все мои действия и желания предупреждались ину, ину даже решил за меня, что я хочу есть. Со мной ехал т. Попов, председатель Масложирсиндиката, к нему тоже приставили ину, обыскали, только не брали «Объявления».
Мистер Смит, которого только обыскали и опросили, в нашу сторону не смотрел.
В ресторан ввалилось человек пятнадцать корреспондентов. Есть же интернациональное братство работников пера, — я взвыл от полиции перед ними, — и тут я впервые научился различать индивидуальность японских лиц по тому, как опускали в молчании свои головы корреспонденты. Корреспонденты-фотографы просили ину отойти.
У меня уже в мистику разрослись слова, с которыми ко мне обращались — по-русски — ину: «ви русский? — ви грамоцный? — ви писи-писи ритерацура?».
Ину посадили нас в поезд, — поезд понес нас в красоты Японии, в эту невероятную для глаза прелесть, в зеленые рощи, в созревающие апельсины и в такую глубь синих заливов моря и синего неба и синих гор, — что — передо мною сидел ину, ину дал мне свою визитную карточку «чиновник особых поручений при Симоссэкском губернаторе», ину пытал меня, фантастически арестованного человека.
Я был счастлив, что со мною не поехал Всеволод Иванов, ибо, зная Всеволода, мне было ясно, что Всеволод кончил бы эти дела мордобоем (и к слову, знающие люди мне говорили, что битье ину явление нормальное, общепринятое, ибо такой характер, как у Всеволода имеется и у других). Я не понимал, что такое произошло, по какому поводу я арестован, — по наивности я спрашивал это у ину, они отмалчивались, не слыша. Через каждые два часа ину менялись. Так было до Токио.
В Токио мы приехали утром. Часа за два до Токио, еще раньше Иокогамы, в моем купэ собралось такое большое количество японцев, что я вынужден был с ними перейти в вагон-ресторан.
Я ничего не понимал; теперь я знаю, что те, кто выехали вперед встретить меня, были подлинными моими и русской литературы друзьями, представители различных общественных организаций и газет, — пусть простят они меня: я тогда не понимал, кто полиция, кто не полиция. Представители общественных организаций мне сказали, что на вокзале мне организуется встреча…
Ну, и встречу же мне организовала полиция…
Впоследствии я узнал, что общественным организациям разрешено было меня встретить, но не разрешено было со мною говорить, — разрешено было встретить молча. И около нашего вагона выстроилась рота полиции, уже настоящей полиции, в форме, при пистолетах.
На меня набросились фотографы, заполыхал магний, от которого слепнут глаза. А в это время подходили люди, молча жали руки, передавали визитные карточки и отходили в сторону. Понять ничего возможности не было. Затем, по команде полиции, мы тронулись к выходу.
Тут уже, поистине, я потерял все: волю, понимание, вещи, друзей. Я ехал в одном автомобиле, вещи в другом, кто платил носильщикам, за автомобили — я до сих пор не знаю. В одной гостинице нам отказали, в другой тоже. В третьей, когда тащили мои чемоданы, я видел, как спешно в два соседних номера вселялись ину, а внизу у портье размещался наряд полиции. Видел, как репортеры воевали с этой полицией, чтобы проникнуть ко мне. Мне подсунули листок бумаги, с вопросами о прабабушках, написанными по-английски. В волнении я стал писать по-русски, — заметив, хотел было начать снова: мне сказали, что в гостинице живет русский, сибирский атаман Семенов, что он переведет.
Тут я взвыл окончательно, бросил мои чемоданы и побежал доставать автомобиль. Мой переводчик, который все время был спокоен и успокаивал меня тем, что так, как со мною, в Японии бывает со всеми уважаемыми иностранцами, — вытащил за шиворот от шофера ину. Я поехал в наше полпредство к полпреду Коппу. И перед Коппом я взмолился, чтобы он меня спас.
В этот же день я переехал на дипломатическую квартиру к секретарю полпредства Л. И. Вольфу. В этот же вечер японской полицией был занят особняк перед нашим домом, перед моим жильем, — и полиция выехала оттуда вместе со мною. В. Л. Копп писал в японское министерство иностранных дел: ему ответили оттуда, что полиция приставлена ко мне, — «чтобы со мной ничего не случилось, охранять меня от опасностей».
Мне объяснили, что полиции бояться нечего, ее можно даже бить, ину. Ольга Сергеевна вскоре привыкла к своему ину, звала его Петей, и он таскал из лавочек ее покупки. У меня же много раз болела голова от этих никтошек, которые считали себя в праве поступать иной раз так: — я сидел у приятеля, на улице шел дождь, был двенадцатый час ночи, — и в дверь постучали, — мой никтошка, сняв шляпу, в позе из европейской оперы обратился ко мне:
— Бируняку-сан, я обращаюсь к вашим человеческим чувствам, — на улице идет дождь, уже поздний час, — пожалуйста, ступайте домой, где я смогу передать вас другому полицейскому, а сам обсохнуть…
… И все же, почти ни разу я не существовал без полицейского надзора в Японии, круглые сутки ни на минуту меня не оставляли никтошки-нну: в городе, в полях, в горах; когда я летал из Токио в Осака на аэроплане, никтошки расстались со мною на аэродроме, проводив меня головами, задранными вверх, — и осакские никтошки в Осака первые встретили меня густою цепью. Ничего более идиотственного и нелепого, чем эти никтошки, я на своем веку не встречал, эти собачьи рожи, так и ждущие кирпича, — ничего более оскорбительного для Японии, как эти никтошки, в Японии я не встречал. — И — чем идиотственней были эти никтошки, собаками ходящие за мною, — тем большее уважение вызывают в моей памяти люди японской общественности, потому что всех японцев, приходивших ко мне, потому что каждого японца, приходившего ко мне, полиция записывала, — и каждого японца, уходящего от меня, допрашивала, допрашивала, никак не стесняясь меня, ибо, если я выходил с моими друзьями-япопцами, все равно их сейчас же отзывали в сторону, задерживали автомобиль и мотали их души. С рядом писателей я так и не мог встретиться, ибо полиция и к их домам приставила ину.