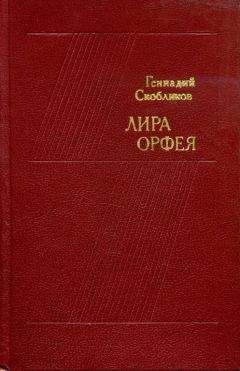Геннадий Скобликов - Старослободские повести
Сад и тут, как и со двора, огорожен крепким ореховым плетнем, калитка была завязана, и я не стал самовольно открывать ее: остановился у плетня и, сколько надо было, постоял перед садом.
Сливонки, выстроившиеся по меже, уже облетели, лишь кое-где на черных ветках ярко светлели мелкие лимонные листочки, казавшиеся почти белыми. Густой вишняк был все еще зелен, но листва побурела, заметно поредела и тоже готовилась упасть. Никогда не спрашивал я у отца, кто посадил тут сливы и вишни: казалось, что они всегда росли тут. А вот яблони посадили братья. Одну, от двора, посадил Петр еще в военный год, когда растаскивали по домам только что заложенный на подходе к погосту колхозный сад. Пятнадцать яблонь посадил Виктор — лет десять назад, незадолго до переезда в Плавск...
Жизнь каждого из нас складывалась по-своему, непохожей на жизнь другого, и общим было только одно: никто из нас, шестерых детей, не собирался унаследовать эту вот хату.
Сестрам и сама их девичья доля, как говорится, не велела оставаться в родительском доме. А жизнь распорядилась и того жестче. Ушла на фронт овдовевшая Наташа, нанялась домработницей в Щиграх четырнадцатилетняя Люба. Потом Люба завербовалась на ткацкую фабрику в Куровское; после войны, демобилизовавшись, к ней туда уехала и Наташа, собиралась уехать и Маруся... но тогда, в сорок пятом, ей не выдали документы... Вышла замуж Люба и уехала с мужем в Брянск, ездил к ним отец, помог построить маленький домик: горницу да кухню, где они и жили все эти годы, растили троих детей, и только в прошлом году построили новый, побольше, — и, понятно, счастливы им. Долго не складывалась жизнь у Наташи, но потом (это по-моему, но, кажется, так оно и есть) — ей и ее мужу Ивану просто посчастливилось встретить друг друга. У Ивана то́же сложилась жизнь: рано лишился отца, жизнь с отчимом, до армии работа в колхозе без какой-либо специальности, в войну был десантником, прошел пол-Европы, а после семи лет армейской службы — ни семьи, ни дома, ничего. Они согласно решили оставить шахты и уехать сюда, в деревню, на родину Наташи — начинать тут новую жизнь. И начали они ее тоже в этой вот нашей старой хате, жили вместе с нами, и Ивану, я знаю, не всегда уютно было у нас, хотя по своей природной деликатности и сдержанности он никогда об этом не говорил, был всегда почтителен и к нашему отцу, и к тете Поле, мачехе нашей, был, может быть, самым добросовестным работником в колхозе и не покладая рук работал на наше общее хозяйство, — и постепенно готовились строить свою хату, обзавестись своим хозяйством. Отец отдал им наш сосновый амбар, из него поставили горницу, а к ней пристроили кухню. Вот и живут теперь Ваня и Наташа своим домом, своим хозяйством. Оба трудолюбивые, хозяйственные, они живут в достатке — и с радостью, хлебосольно принимают у себя всех нас.
А мы, ребята? Виктор окончил школу ФЗО, получил специальность плотника и был направлен на стройку в Москву. Петр окончил семилетку прекрасно, ему бы учиться дальше, но у отца не было средств содержать двоих в городе, и Петр пошел на государственное содержание в железнодорожное училище, откуда был направлен в Горьковскую область — и живет теперь там, в городке на Волге, оставил бригадирство на железной дороге, пошел на завод, жил с семьей в тесной комнатке в бараке, вечерами из поселка в город ездил на занятия в техникум, теперь он специалист-электрик, начальник цеха. А мне, последнему, посчастливилось окончить дневную десятилетку, а после армии и университет; и по распределению я уехал на Урал.
Так вот и не остался никто из нас в этой хате, никто не вернулся сюда. Было вернулся Виктор из Москвы: туберкулез легких и водка ослабили брата, и он решил было начать новую жизнь тут, в деревне, на что охотно согласилась и его жена Маша, тоже ничего не видевшая светлого ни в своей семье в Плавске, где буянил пьяница-отчим, ни на той же стройке в Люберцах, куда она попала шестнадцатилетней выпускницей ФЗУ. Они и пожили в нашей хате несколько лет, брат успел посадить и этот вот яблоневый сад... а потом не захотел жить тут, уехал с семьей в Плавск, на родину жены, и, почти без средств, начал строить свой собственный дом.
...И когда от тяжелой болезни умерла наша мачеха тетя Поля, отцу ничего не оставалось делать, как продать эту вот нашу хату и самому уехать отсюда.
В прошлом году летом мы съехались в Плавске: отец, Петр и его восьмилетняя дочь Домочка, названная братом этим редким теперь именем в память матери. У Виктора был рак желудка, он уходил на глазах. В один из вечеров за бутылкой «Столичной» — Виктор тоже выпил с нами рюмку — мы загорелись желанием взять его с собой в деревню. «Смотрите... — покорно сказал Виктор, отдавая нам, младшим, право решать. — Вообще хотелось бы... хоть бы сад посмотрел...» Но утром брату стало хуже, и мы отказались от своей опрометчивой затеи, Виктор захотел проводить нас на вокзал, мы тихо шли по пыльному Плавску, много раз останавливались, чтоб брат передохнул, разговаривали о чем придется. А когда подошел поезд, брат как бы невзначай сказал: «Вы, ребят, это... в сад там зайдите, посмотрите, как он...»
Несколько дней спустя с Петром и Домочкой мы стояли на горском поле, отсюда — на той стороне лога. Было жарко, выбросившая колос густая зеленая пшеница серебрилась на ветру. Мы вспомнили давнюю привычку: раздергивали надвое зеленые стебли пшеницы и пробовали на вкус их нежную сочную мякоть, — сок — со сластинкой — так хорошо напоминал детство. Светловолосая сероглазая Домочка смеялась, глядя на нас: «Траву едят!»
— Вон в той хате мы жили, — и Петр показал дочке нашу хату. — Там бабушка твоя жила, Домна Андреевна. Помнишь, я рассказывал тебе о ней. А вон от хаты по выгону, а потом по горе чуть заметна дорожка к колодцу — по ней бабушка за водой ходила, — не то, что у твоей мамы: и в ванной, и на кухне вода! А за хатой видишь сад? Дядя Витя яблони там посадил...
Петр с обычной своей основательностью рассказывал дочке, откуда мы с ним «пошли и есть», и восьмилетняя Домочка слушала его с таким откровенным интересом, что я без всякой сентиментальности был благодарен Петру за эти прекрасные полчаса. А потом по извилистой дорожке в душном орешнике мы спустились к нашему колодцу, попили легкой ключевой воды и по старой нашей — К о л и н о й — дороге (она заросла травой и лишь приблизительно угадывалась на зеленом склоне горы) поднялись к нашей хате.
...Через три месяца мы съехались в Плавск уже все. Погода была слякотная, пасмурная, улицы утопали в жидкой грязи. В день похорон пошел тихий густой снег. Выделенная райисполкомом машина шла пустой: друзья и товарищи Виктора — рабочие парни — отдали ему последнюю дань уважения. Мы с Петром поддерживали сестер, и пока совершался тот долгий и такой короткий пятикилометровый путь, после которого брат должен был остаться только в нашей памяти, — мне было так, что это вся наша скрытая друг от друга боль жизни обнаружилась сейчас в этом траурном шествии, что этот час — час безутешной скорби — по-своему и... (как произнести это?) ...счастливый: оторванные жизнью друг от друга, разбросанные по всей стране, привязанные к нашим квартирам, к нашей работе, живущие каждый своими заботами, во многом уже не знающие и не понимающие друг друга, мы тут, у Виктора, в с п о м н и л и, что мы одной крови, и теперь хоть какую-то долю жизни живем единой болью, едиными мыслями, одинаковым у всех нас голосом совести. ...Двадцать лет брата преследовали болезни, было много жизненных неудач и срывов, была простая работа хорошего плотника и столяра, были табак и водка; был тот бесхитростный бедный быт, когда все на виду и нет надобности надевать на себя маску благополучия и собственной значимости, — и был тот прижатый жизнью человек, кому мы все усердно на самых разных тонах советовали то не пить, то не курить... и брат — мальчишкой суровый и властный — теперь, хвативший от жизни, никогда не возразил ни на одно наше замечание, принимал все сказанное как должное — и никогда сам не пожаловался ни на болезнь, ни на бедность, продолжал жить, как оно получалось, не посягая на большее и ни разу не обидев намеренно рядом живущего; только теперь я понял до всей глубины, что за водкой и резким словом скрывалась боль неполучившейся жизни, чему виновником он видел только себя самого; теперь, спокойный, он плыл впереди над нами, и чистый мягкий снег устилал его последний путь. «Помнишь, — сказал я Любе, — когда хоронили маму, был тихий теплый дождь». — «Ты разве помнишь?» — «Ты сама нам рассказывала. Помнишь, в войну, на печке?..» — «Да-да, помню...»
И когда мы бросили по горсти земли — снег перестал, выглянуло солнце, и вся земля лежала в белой девственной чистоте...
А вечером, когда уснули трое детей брата, а потом забылись сном его жена и наш старенький, ослабевший отец, мы четверо сидели в холодной кухне и согревались растворимым ленинградским кофе, что привезла из Брянска предусмотрительная Люба. «Ребята, неужели только горе будет нас вместе собирать? — говорила Люба. — Давайте как-то соберемся и все вместе поедем к Наташе, походим по нашим дорогам, побываем у мамы. И детей с собой возьмем. Что мы разбрелись кто куда?..» Мы просидели почти до утра, вспомнили и грустное... и смешное, — и странно подумал бы тогда о нас кто-нибудь посторонний: мы немало и посмеялись в ту ночь; через день, сидя три часа ночью у иллюминатора «Ил-18», когда все пассажиры спали, а в восьмикилометровой черной глубине золотистым елочным дождем светились огни городов, я осмысливал этот наш неуместный для такого дня смех: было все просто — мы были так едины в общем нашем горе, что потом так же едино охотно отдались целительной силе воспоминаний о нашей прежней жизни, где Виктор был таким же живым, как и все мы, и где всего было полно: и грустного, и смешного, и просто обыденного — из чего и складывается жизнь. Об этой вот деревне говорили мы, об этой вот старой нашей хате, что чернеет крышей за молодым яблоневым садом, оставленным братом на родной земле...