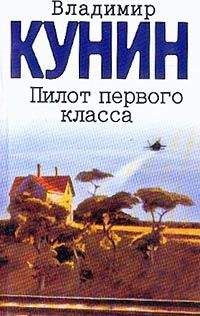Римма Коваленко - Конвейер
«Ну и тупица ты редкостная, — подумала Татьяна Сергеевна. — Да у тебя что, умишко такой бестолковый, что единственную во всей области приказом отметили?» Стала думать, как подойти к девочке, что сказать, чтобы не теряла времени, среди года шла в десятый класс, в вечернюю школу. Ведь курс один раз уже прослушала, можно и в середине года в десятый класс идти. Договорилась с директором школы, та согласилась принять. Пришла на работу решительная: не помогут слова, действовать буду, к начальнику цеха потащу, собрание устрою, никуда не денется, доведет Соня свой курс обучения до аттестата. Но ничего такого не успела. Встретилась в проходной Наталья и как обухом по голове:
— Твоя-то Климова вчера вечером родила.
Что-то путала Наталья, быть такого не могло.
— Какая Климова?
— Новенькая твоя. Без декретного отпуска. Прямо после смены — в больницу.
— Не говори глупостей, Наталья. Может, выкидыш? Как она родить могла, когда ничего заметно не было?
— Это ты у нее потом спросишь. А пока мальчик родился, доношенный, три шестьсот.
Наталья тогда работала мастером на другом конвейере. Из больницы ей позвонили утром по ошибке. Климова отказалась сообщить свой домашний адрес, сказала только, что работает на конвейере на «Розочке».
— Теперь думай, куда ее с ребенком девать, — сказала Наталья. — Она у подруги жила, из дома уже полгода как ушла и возвращаться туда не думает.
Татьяна Сергеевна в тот же день побывала в роддоме. Добилась, чтобы впустили в палату. Соня лежала такая же робкая и безвинная, только темные круги под глазами говорили о недавних страданиях. Столики соседок были заставлены дорогими в ту пору цветами, коробками конфет, банками с болгарскими и домашними компотами, а на Сониной тумбочке — крохи соседских подношений: пара конфеток, апельсин и несколько бумажных рифленых салфеток. Татьяна Сергеевна сдвинула в сторону эти конфеты и апельсин, положила большущий шоколадный набор с бегущими оленями на крышке, сказала властным голосом вошедшей санитарке:
— Цветы из палаты убрать. С цветами пусть встречают. Нельзя в палате рожениц держать столько цветов.
Санитарка стала собирать банки с цветами, женщины покорно, без ропота расставались с ними, а Соня глядела во все глаза на своего мастера, и было в этом взгляде что-то большее, чем удивление.
— Молодец, — прошептала ей Татьяна Сергеевна, — я вот девочку родила и всю жизнь завидую, у кого сыновья. И главное, ни о чем не беспокойся. Чтоб ни одной тревожной мысли в голове не держала.
Соня заплакала. Палата затихла, враждебными глазами уставилась на Татьяну Сергеевну. Откуда им было знать, какие это были слезы? И в этой тишине Соня громко сказала:
— Я его сама выращу, Татьяна Сергеевна. Я совсем не такая, какой вы меня знаете. Я за себя постою.
Потом они вместе хлебнули лиха. Татьяна Сергеевна совершила крупную ошибку: привезла Соню с ребенком из родильного дома к себе. Не надо было этого делать. Надо было, чтобы и врачи родильного дома и цеховой профсоюзный комитет, пользуясь моментом, что молодой матери негде жить, поставили вопрос перед заводом о квартире. А Татьяна Сергеевна поспешила: выстроила с подарками, с цветами у крыльца родильного дома чуть ли не весь конвейер и в срок, чтобы не томилась, не переживала Соня, увезла ее к себе.
Лавр Прокофьевич первые дни беспрестанно улыбался, веселило его имя младенца — Прохор. Подходил к коляске и на смехе произносил: «Ишь ты — Прохор». Потом стал реже улыбаться, научился ходить бочком, словно боялся кого-то задеть. Да и Татьяна Сергеевна лишилась дома. Сидела на кухне, как на вокзале, прислушивалась, спит ли мальчик. Были, конечно, блаженные минуты, когда они втроем купали Прохора или когда он заводил свою непонятную урчащую песню, поглядывая по очереди на взрослых и каждого одаривая улыбкой. Соня каждый день, когда Татьяна Сергеевна возвращалась с работы, задавала один и тот же вопрос: «Ну что сказали?» И в профкоме, и в парткоме, и в дирекции говорили каждый раз одно и то же: «Подождите».
Теперь у Сони своя однокомнатная квартира. Воспоминанием стало их совместное житье. Как говорит теперь Соня: прошли наши страдания, а ребенок остался. Болтун, проныра, и куда в первый раз ни приведут — в ясли, в детский сад, на прием к новому врачу, — у всех рот до ушей: Прохор! Деда Сониного имя. А вот как звали отца Прошкиного, этого Соня даже Татьяне Сергеевне не поведала. Словно и не было его никогда, а Соня на самом деле была такая тупица, что не смогла сдать экзамены за школьный десятый класс. Ребенок примирил Соню с родителями. Не настолько, чтобы она внука им вручила: помогайте растить. Тут Соня осталась верной своему слову: «Я его сама выращу». Но все-таки произносит ребенок такие слова, как «баба» и «деда», в гости на праздники к ним ходит, носочки да кофточки, связанные родной бабкой, носит. А недавно сочинил стихотворение:
Когда приедет папа,
Мы с ним пойдем гулять.
Мы будем с ним беситься
И никогда не спать.
— Не придавай значения, — сказала Татьяна Сергеевна, когда расстроенная Соня продекламировала ей это произведение. — Когда приедет, тогда они на самом деле будут и гулять и беситься. Будет у него еще отец. Одна не останешься.
— Я и сейчас не одна, — ответила Соня, — у меня Прошка. С меня хватит.
— Куда уж больше. — Татьяна Сергеевна в последнее время все чаще не понимала Соню. — Я тут недавно высчитала, что когда Прохору будет восемнадцать лет, то тебе тридцать шесть. А ведь тридцать шесть — это такая еще молодость…
— С вашей колокольни.
— Конечно, с моей. Не знаю, высока ли колокольня, но кое-что видно.
На Соню в субботу она не рассчитывала. Сама хотела сказать, чтобы поехала с Прохором в лагерь. На автобусе туда, на автобусе обратно. Наталья договорилась, что кормить заводчан будут два дня бесплатно, профсоюз выделил деньги. Татьяна Сергеевна и сама бы с веселой душой поехала в лагерь. Как только могла Наталья попрекнуть ее этой субботней работой? Ведь лучше других Наталья знает, что не мастера это воля, так нет же, бесстыдно глядит в глаза: «Где приказ?»
Подошла Лиля Караваева. Личико вытянулось, в глазах печаль. Вот так-то, милая, еще горше будет. Нужно о себе сто раз подумать, прежде чем над другими руку занести. Хотела отцовскую последнюю любовь уничтожить, а своя — цап за шею и сдавила. Теперь вздыхай: откуда ты, Шурик Бородин, в мой решительный час на конвейер свалился? Теперь вместе с отцовой и свою любовь под корень рви. Конечно, Шурик Бородин — ненадежная фигура, но ты-то этого не знаешь. А знаешь другое, что сама, собственной рукой заявление написала и в отдел кадров сама отнесла.
— Татьяна Сергеевна, можно я в субботу тоже приду?
— У тебя же билет на поезд в субботу, Караваева.
— Я в двенадцать ночи уезжаю.
— А пропуск сегодня должна сдать. И в наряд я уже тебя внести не могу. Не числишься ты у нас в субботу.
Лиля чуть не заплакала. Но не жалко. Степан Степанович, отец ее, перед глазами стоит. Тоже чучело хорошее: один, видите ли, растил — недорастил, одна-единственная, без матери росла. Одно и спасение было этой сиротинке понять на заводе, кто она такая: не просто Лилечка, а человек среди людей. А там уж, в деревне, она подберет юбки, подбоченится, быстро всех расставит по местам, объяснит, кому кого любить в каком возрасте и под какой крышей.
Неужели самая жестокая глупость прет из человека в молодости? У Верстовской кто не за станком, тот дармоед, у этой Караваевой, кто стар — любить не смей. Нет, не в молодости дело. В молодости эта жестокость видна, открыто прорывается. Если не вырвать ее, не вытравить, куда же она потом денется? Зароется, запрячется и будет сидеть в человеке до самой смерти.
В автобусе Прохор выпрягся, расходился так, что Соня не вытерпела, зажала его между колен и пригрозила:
— Будешь так вести себя, остановлю автобус, пойдешь домой пешком.
Угроза не подействовала.
— Она меня зажала, — заорал Прохор, — она мне дышать не дает! Посмотрите, люди, как она меня мучает.
Автобус откликнулся смехом. Ася Колпакова, ехавшая к сыну, который уже три недели был вожатым в лагере, позвала к себе Прохора:
— Иди ко мне, пока жив.
Прохор освободился от Сониных коленей, сел рядом с Асей и тут же стал жаловаться:
— Дома говорит: радость моя, огуречик на грядке после дождика, а тут душит.
Парень так искренне недоумевал, что автобус уже не смеялся, а прямо стонал от хохота.
— Ну и огуречик! Он же тут только по потолку не бегал, а теперь еще в обиде!
Соня улыбалась, но была расстроена. Откуда у Прошки это желание воевать с ней, обращаться за помощью к людям и вообще откуда в нем взялось столько прыти: ни дома, ни в детском саду он никогда на голове не ходил.