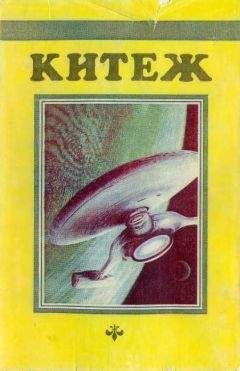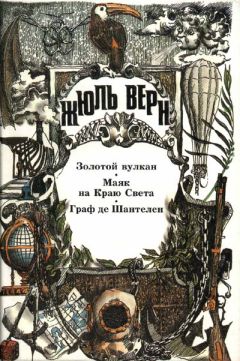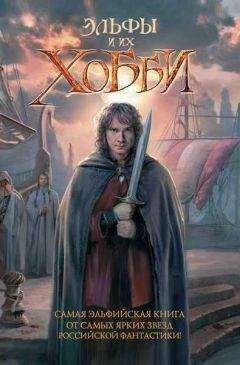Александр Черненко - Моряна
«Ну вот, людям светим, а сами пути не видим. Все: и батяша, и я, и Митя».
А Лешка?
Лешку не могла Глуша вспоминать без улыбки, как ни тяжело ей было сидеть взаперти у старика.
«А все из-за него! — незлобиво упрекала она Матроса. — И чего привязался?»
Осерчав на Лешку, она все же порой жалела одинокого ловца; в нем привлекало ее то, что он хоть и неудачлив в жизни, зато радостен, и среди шуток и смеха в нем горели большие желания, — они и отталкивали и привлекали к нему людей.
Однако Глуша избегала дум о Матросе, хотя восторженная улыбка его часто сверкала перед ее глазами; Глуша думала только о Дмитрии, только его считала себе под стать.
И теперь, глядя из окна на море, где лениво роились волны, перехваченные с маяка яркой холстиной света, Глуша впервые сравнила Дмитрия с Лешкой. Тут ей припомнились слова отца, которые говорил он Дмитрию, о том, чтобы бросал тот Дойкина. Да и Лешка не один раз с неприязнью упоминал о Дмитрии, говоря, что классу в нем нету. Что это такое?.. Припомнились Глуше и другие слова батяши о Матросе: «Хорош парень. Крепок!» И в самом деле, без ноги — ведь не без сердца...
Но почему же так влечет ее к Дмитрию? И правы ли старик и Лешка, осуждая его?
Стоя у окна, Глуша заметила, как вдали неожиданно, сверкнув, зарябили воды.
Полосой налетел ветер. Море глухо зарокотало, покатив к берегу косматые, пенистые валы; волна набегала на волну, взметая кипучие белые гребни. Ветер тревожно завыл в стропилах маяка.
Глуша подошла к зеркалу и отшатнулась — она не узнала себя! — на нее глянуло исхудавшее лицо, под глазами лежала печальная синева.
«Извелась, совсем извелась! Что-то Митя скажет?..» — И жгучая тоска, предчувствие какой-то беды нахлынули на нее. Кутаясь в шаль, она повернулась к окну, присела на подоконник и долго слушала, как тяжело бились под маяком волны. А когда пристальней вгляделась в белую полоску света, что уходила далеко-далеко в море, в тревоге вскочила и простонала:
— Ой! Не Митя ли?..
От берега стремительно понеслась на глубь Каспия посудина под парусами, словно большая белокрылая птица.
Глуша, шатаясь, прошла к койке и уткнулась в подушку. Все думая о Дмитрии, она то засыпала, то вдруг вздрагивала и поднималась, — сердце громко, стучало, хотелось кричать о помощи.
Она опять шла к окну и, глядя на однообразно бегущие на маяк волны, прислушивалась, не спускается ли с вышки батяша.
— Замучил меня! — шептала Глуша. — Замучил вконец!..
Егорыч не приходил до полуночи, отсиживаясь на вышке и выжидая, пока уснет дочь.
Но не всю же ночь топтаться на мостках!..
И как только он, крадучись, заявился в сторожку, Глуша набросилась на него:
— Долго будешь мудровать? Утопить хочешь?..
В гневе она рванула его за рукав.
— Что ты, что ты, дочка? — опешил Егорыч. — Чего ты, родная?
— Родна-ая! — передразнила она. — Была б родная, не измывался бы!
— Постой, постой! — Маячник, отступая, попробовал отшутиться: — Мы ведь, Глушок, с тобой как рыбка с водой!
— Довольно! Наслушалась прибауток!
— Да чего ты, доченька?..
— Не могу! Не могу больше! — продолжала наступать Глуша на старика. — Садись! Говори!
И, подведя отца за руку к столу, она опустилась на табурет:
— Говори, говори! Кому обещал меня?.. Лешке?!
Громко зарыдав, она ударилась головой о стол.
— Ой, дочка! — Старик, обхватив голову Глуши, стал целовать ее, приговаривая: — Чего ты, родная! Да разве я?.. Глуша! Сама выбирай! Известно: рыба ищет где глубже, а человек где лучше... Вот и выбирай, родная ты моя!
Не поднимая головы, Глуша сквозь всхлипывания, с упреком сказала:
— А чего молчал?
— Да чего ты, право! — изворачивался старик. — Потому и молчал, все терпел, пока сама обмозгуешь. Сама должна выбирать себе человека. Сама, дочка!
— Сама-а... — Глуша отвернулась, вытерла слезы.
— Знамо дело, дочка, сама.
— А когда домой поедем? — строго спросила она.
Маячник удивленно подумал:
«А спрашивает как начальник, как старшой!»
— Когда в Островок, говорю, поедем? — еще настойчивее повторила Глуша.
— А хоть завтра, дочка. Прямо с зорькой, — заторопился Егорыч. — Проглеи-то вон как раздались, да и лампа теперь у меня в исправности... — Он хитровато прищурил глаз. — Еле справился с этой проклятущей лампой! Чайку попьем — и тронемся на куласе.
Не раздеваясь, Глуша упала на койку.
— С зорькой, дочка, и тронемся.
Он готов был ехать хоть сейчас — так напугала его столь неожиданная перемена в поведении Глуши.
Никогда не кричала она на отца, никогда не противилась его воле, всегда терпеливо выжидая мучительно долгие отцовские решения.
«Ишь, чего наделал, старый пень! — ругал себя маячник. — Плюнет на тебя — и уйдет. Ну и настряпал делов, старый хрыч!»
Присев у изголовья койки, Егорыч долго глядел на дочь, удивляясь, откуда взялась у нее такая непокорность.
— Не спишь, дочка?
Глуша молчала.
«Дурень! Чертяка старый! — продолжал корить себя Егорыч. — Из ума выжил! Вконец замудровал дочку!..»
В раздумье просидел он до рассвета подле Глуши и все качал головой:
«Эх ты, жизнь!.. А может, еще и обойдется? Обойдется, может?.. Эх, как бы повернулось все по-хорошему!»
...Рано утром, как только вынырнул из-за края моря багряный полукруг солнца, Егорыч погасил лампу на вышке, покурил, посмотрел на розовую зыбь Каспия и недовольно взглянул вправо, в сторону Островка, где кружило белое марево туманов. Закатисто вздохнув, старик медленно спустился в сторожку, чтобы разбудить Глушу.
А дочь уже сама поднялась и хлопотливо приготавливала стол. Они молча пили чай. Старик пытался украдкой заглянуть дочери в глаза, желая дознаться, чего она хочет.
— Налей батьке еще чашечку. Может, и наливаешь-то в последний раз. Эх, дочка, дочка!..
Глуша не ответила.
И, чтобы разжалобить ее, чтобы тронуть внезапно зачерствевшее дочернее сердце, он унылым голосом опять просил, передавая ей свою чашку:
— Налей, Глушок, налей... Может, больше и просить не придется, дорогая ты моя.
И, как раньше сам упрямо молчал, так же упрямо не отвечала ему теперь Глуша, пока сама же не нарушила мучительного молчания:
— Значит, поедем, батяша?
— Сейчас и поедем! — обрадованно откликнулся он и торопливо подул на блюдце.
В ответ старику Глуша. в первый раз за эти дни ласково улыбнулась. У Егорыча радостно зачастило сердце.
«Отошла, — подумал он. — Утихомирилась».
Бросив пить чай, она стала быстро собираться.
Видя, что дочь становится прежней, послушной, маячник осторожно заговорил:
— Так вот... того, дочка...
— Чего ты? — Глуша насторожилась. — Опять начинаешь?
— Как говоришь? — и старик приставил к уху сложенную трубочкой ладонь, но взглянув на посуровевшую дочь, испуганно проронил: — Гляди, говорю, сама... Сама — как лучше, чтоб не каялась.
Высоко держа голову, она ходила по сторожке как никогда горделивой походкой и, должно, чувствовала себя полной хозяйкой, чего с ней никогда не было. Маячник впервые видел дочь такой решительной.
«Будто кто подменил ее», — с тревогой подумал он.
— Поскорей, батяша! — требовательно заторопила Глуша.
«И говорит-то как не с батькой, — все удивляясь, думал старик. — И чего с ней стряслось?»
Он опасался, как бы она опять не стала кричать на него.. Наливая в блюдце чай, старик продолжал исподлобья следить за пей.
— Довольно тебе! — необычно строго сказала Глуша и с шумом сорвала со стены полушубок.
От испуга маячник даже чашку выронил.
— Дома напьешься! Поехали!
Она выжидательно остановилась у двери. Старик устало прикрыл глаза и тяжко вздохнул — вот и ускользает, уходит его власть над дочерью!
— Ну? — и Глуша строго свела брови.
Егорыч медленно встал, подтянул шаровары и негромко сказал напоследок:
— Ладно, дочка. Пошли на кулас... Так и быть... Да... Ладно... И помни отцовы слова: подумай обо всем, погляди вокруг как следует... Кто милей, кто лучше тебе, — помозгуй: Митрий или Лешка... Лешка, а может, Митрий... Помозгуй — тебе жить, не мне...
Намекая на Дмитрия, он тихо добавил:
— У ловца весло — одно ремесло, да и то поломано!
И, подойдя ближе к Глуше, жалостливо попросил:
— Подумай, дочка. А то ведь — чем сатана не шутит! — и так может получиться, как в штормы: и к одному берегу не пристанешь и к другому, милая, не прибьешся... И понесет тебя, понесет!.. Да-да, часто бывает так. Глядишь — и по рукам пошла. Пропала тогда, дорогая!.. Помни, дочка: и быстрой и широкой реке слава ведь только до моря.
Глуша решительно открыла дверь и вышла из сторожки.