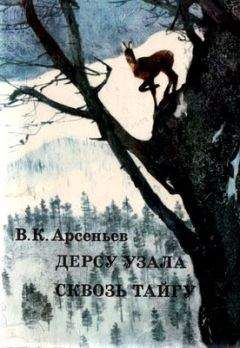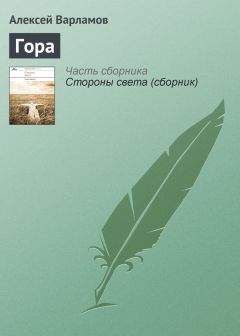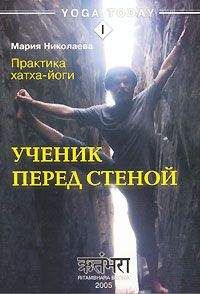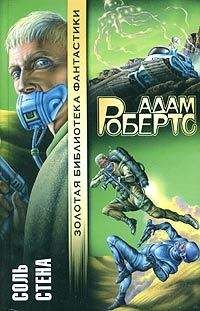Михаил Голубков - Крайняя изба
— Брысь, — предостерегает он Петруху, — подошвы оставишь.
Из пробитой лунки выбугривается вода — она почему-то парит, теплая, что ли? — расползается тонкой, широкой лужицей. Коська бесстрашно топчется в ней, ему нипочем вода, резиновые подошвы спасают.
— Бурав или пешню бы…
Сняв варежку и очистив лунку, Коська запускает руку под лед, выбрасывает щучку:
— Есть одна! Дальше поехали.
Щучка прыгает, бьется, прилипая ко льду. Рыбу тут же прихватывает морозом. Она начинает тускнеть, терять краски. Сначала побелели плавники, хвост, затем и пятнистое тело покрылось бархатистым налетом.
— Ну, чего там застрял? Рыбы не видел?
— Кось, можно я понесу?..
— Да брось ты ее! — кричит Коська. — Куда она к шуту денется? Возьмем на обратном пути.
Метров через сто Коська вновь останавливается, срывает с плеча колотушку, бьет раз за разом по льду, кидаясь то в одну, то в другую сторону.
— Чуть не ушел, собака! — поясняет он подбежавшему Петрухе.
Прежняя операция — лунка продолблена. Толстенький, крупночешуйчатый голавлик выброшен из воды. Этот усмиряется дольше, чем щучка, дольше не тускнеет, не гаснет, отливая серебром на солнце.
Все дальше и дальше уходят они от хутора, сотрясая морозную тишь гулкими, раскатистыми ударами, оставляя за собой то золотистого подъязка, то красноперую сорожку, то горбоспинника-окуня.
День набирает силу, расходится, разгорается все ярче и ярче. Река расстилается перед ними заманчивой, зовущей дорогой.
Берегом бежит Капка. Прыгает, скулит в радости, но близко не подходит, не может забыть пинок хозяина.
К полудню, однако, Коська спохватывается:
— Стоп, машина… назад. Так ведь недолго и на занятия опоздать… — И неожиданно предлагает Петрухе: — Пойдешь со мной в школу, клоп?
— Я? — не верит тот ушам.
— Кто же? Не Прохор же Меркушев.
— А ты меня не обманываешь?
— Больно нужно, — посмеивается Коська.
Он щедр, благодушен сейчас. Под воздействием хорошего дня, удачной охоты-рыбалки, безропотного и преданного послушания Петрухи нрав его — суровый — смягчился, этаким снисходительно-покровительским стал.
Обратно возвращаются тем же путем. Приворачивают к каждой лунке, подбирают уже закостеневшую рыбу. Петруха ее, как беремя дровишек, несет. Мелкая рыбешка — щепа, рыба покрупнее — полешки…
На хуторе беремя у Петрухи принимает Коська.
— Держи, — вручает он мальчонке с десяток полешек. — Матери отдашь, пирог испечет… Да смотри, не болтай лишко. Тебя со мной не было на речке, понял? А то прибежит вечером, раскричится: «Ты, Коська, соображаешь, нет? Зачем, сомуститель ты чертов, мальца за собой таскаешь? Утонуть захотели?» Скандалу, короче, не оберешься.
— Не бойся, не выдам, — уверяет Петруха.
— А я и не боюсь. Тебе ведь, не мне влетит. — И Коська уходит, строго предупредив напоследок: — Поживей там…
— Я только Краснуху напою!
Петруха мчится домой, оставляет на полке в чулане рыбу, натужась и сплескивая, тащит из избы большое, вместительное ведро с пойлом.
Краснуха, заслышав мальчонку, подает голос, тягуче и нутряно взмыкивает, глухо и тяжко топочет в стайке.
С трудом отодрав пристывшую дверь, Петруха ныряет в пахучий, туманный стаечный полумрак. Он еще не донес, не поставил пойло, а Краснуха уже сунула морду, шумно и безотрывно пьет, раздувая широкие розовые ноздри.
Ведро быстро пустеет, голова Краснухи проваливается, одни лишь ухватистые рога да прядающие ворсистые уши торчат наруже.
В стайке тесно, тепло от большого коровьего тела. В узенькое маленькое оконце, через которое навоз выкидывают, бьет упругий пучок дневного света.
Вскоре шершавый и сильный язык Краснухи зашаркал, заходил, как наждак, по дну и ведерным стенкам. Все вылизала начисто.
Петруха выпархивает во двор, шаткой, скрипучей лестницей лезет на сеновал, забитый доверху. Спешно надергивает пышный звенящий ворох.
Сено душистое, лугом после дождя пахнет. Так бы и похрумкал, попробовал сам! Повалялся бы, покувыркался в нем! Да время не терпит.
Петруха захватывает ворох пополнее, кряхтя волочет, сбрасывает в дыру над кормушкой Краснухи…
Затем он на минутку заскакивает домой, наспех съедает, запивая молоком, шаньгу, другую, третью… когда и проголодаться успел? Парочку шанег в карман — и опять на улицу. Коську караулить, не оставил бы, не ушел бы без него в школу.
На воле по-прежнему солнечно и вроде как потеплело немного. Изморозь на земле, на солнечных угревных местах подтаяла, впиталась темными пятнами. Небо тоже отошло, рассосалось, из резкого, густо-синего стало белесым по краям, а в центре, над головой, ласково и голубовато залоснилось.
Появляется Коська. Теперь он в школьную серую форму одет, вместо бахил-валенок — ботинки зимние (что-что, а денег на Коську Наталья не жалеет), вместо фуфайчонки латаной-перелатаной — шуршащая легкая болоньевая куртка. Из-под куртки на шее пионерский галстук горит. Шапка тоже другая, из кроличьей шкурки сшитая. Портфель он на прочных ремешках за спиной примостил.
— Готов?.. Двинули.
Дорога на Заостровку поднимается нешибкой крутизной угора. По ту и по другую руку — ржаное распаханное поле, до недавних пор еще шумливое, золотистое, а теперь вот застывшее, мертвое, в комья и пласты искромсанное.
— Вперед! — командует Коська. И, выхватив шашку воображаемую, коня воображаемого пришпорив, войско за собой увлекая, понесся во весь опор на штурм, на взятие высоты неприятельской.
Петруха не отстает от него, тоже беспрестанно «коня» вздыбливает, бьется отважно, половинит врагов налево и направо.
Туго, ох как туго приходится «неприятелю». Неприятель — ура! — не выдержал… Неприятель — ха-ха-а! — пятки смазывает.
Осаживают на угоре «коней», дух переводят. Отсюда уж Заостровка видна, тоже не бог весть какая, в каких-нибудь полсотни дворов деревушка. С левой стороны к Заостровке дорога примыкает, с правой, обогнув угор, все та же Камышовка блестит.
За Камышовкой необозримые дали раскинулись: чернеет на горизонте лес, повсюду, по холмам и лощинам, светятся блеклые квадраты и полосы озимых. Их перемежают темные поля под паром, березовые и осиновые колки, черемуховые и ольховниковые заросли. Лощины местами речушками и ручьями изрезаны. На седых лугах приземистые, осевшие стога пасутся. И еще много-много чего видно с угора.
Школа в Заостровке на самом бойком месте стоит, бывший поповский дом занимает. Церковь полуразрушенная рядом. Мохом, травой зарастает церковь, мелкие, цепкие деревца выпустила из развалин.
Поповскому дому сноса нет. Огромный, раскрыленный, из прочного красного кирпича сложенный, он возвышается над деревней, над местностью. Сюда, как к костру, ученики со всех сторон сходятся.
Занятия в школе еще не начались. В коридорах гвалт, кутерьма, ребятни полно. Рыжий, веснушчатый мальчишка, яркий, что осенний лист, возник перед Петрухой, обошел кругом и, не признав в нем равного, достойного себе, спросил задиристо и нахально:
— Зачем приперся?
Спросил и давай наступать, наскакивать, как петух, оттеснять Петруху к двери, он чуть повыше был:
— Иди себе… иди знай.
Коська хлопает конопатого по затылку, грозно и внушительно предупреждает:
— Он со мной пришел, понял?
Конопатый живехонько растворяется в толчее ребячьей. А Коська с Петрухой в раздевалку идут.
— Шубейку твою близко повесим, — говорит Коська, — чтоб найти мог, если домой раньше времени надумаешь… Шапка в рукаве, рукавицы в кармане.
Затем они в класс входят, просторную и высокооконную комнату.
В классе тоже полно ребятни. Но ребятня здесь не разнокалиберная, не как в коридоре, без мелочи пузатой. Старшеклассники, одним словом!
— А Сорока-то с ке-ем! — сипло оповещает школьник с забинтованной шеей.
Класс шумно сбивается вокруг пришедших. Мальчишки тормошат Петруху, девчонки журят, как заправские женщины.
— Утю-тю-тюу-у… — поет одна ласково, — кто к нам пришел-то-о!
— Чей такой хороший мужичок нагряну-ул? — в тон ей подхватывает другая.
И каждая норовит погладить Петруху, «козой» из двух пальцев забодать.
Неожиданно все по своим местам рассыпаются. Те третьеклассники, что в коридоре были, тоже влетают — на всю школу звонок трезвонит.
Коськина парта у окна, последняя.
— Тут будешь сидеть.
— Читать и писать учиться?
— Учиться, учиться… если толку хватит.
Входит учительница, полная, пожилая, в вязаной голубой кофте. Класс, как по команде, стих, замер в проходах меж партами, один Петруха сидит.
— О, да у нас гость? — восклицает учительница. — Петя Вяткин вроде… из Комарова? — Учительница приставляет к глазам очки, которые в руках принесла. — Верно, из Комарова. — Эта старая учительница всех ребят — и школьников, и не школьников — в окрестных деревушках и хуторках знает. — У нас, Петя, все встают, когда старшие входят.