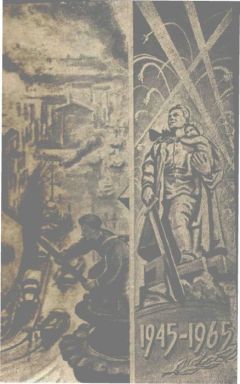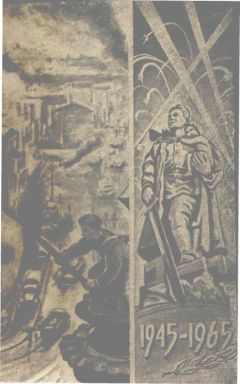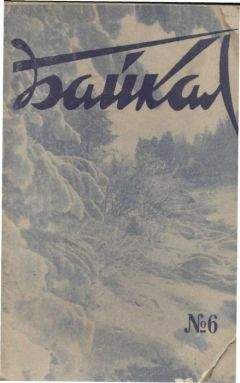Владимир Митыпов - Инспектор Золотой тайги
Помедлив, они подъехали, спешились, и Зверев увидел лежащего ничком очень широкого человека, голова которого казалась непомерно большой из–за буйной шапки волос. Что–то знакомое почудилось в нем Алексею. Вдвоем с Очиром они перевернули его на спину, и тут Алексей вспомнил: тот самый диковинный старец, который несколько дней назад просил продать шелк и бархат и сыпал при этом на землю золотой песок. Как и тогда, он был одет в балахон из мешковины, и балахон этот густо пропитался кровью на груди и на животе. Лужа крови натекла на траву.
Видимо, скитания по степям и пустыням Монголии, по неведомым местам Манчьжурии и Тибета научили Очира многому. Он молча достал из седельной сумки перевязочный материал, банку с какой–то остро пахнущей мазью, вспорол ножом балахон и, несмотря на темноту, принялся с большой сноровкой обрабатывать рану.
Зверев стоял рядом и старался представить себе, что же здесь произошло. Те двое, ускакавшие вниз по Гулакочи, спешили так, словно за ними гнались. Кого они испугались? Этого хоть и здоровенного, но тяжело раненного человека? Или того, кто минуту назад сбежал отсюда? А может, кроме этих четырех в только что разыгравшейся небольшой таежной драме участвовали и другие действующие лица, которые сейчас скрываются где–то поблизости? Подумав так, Алексей почувствовал себя неуютно — он вдруг отчетливо осознал, что, стоя, словно верстовой столб, посреди поляны, представляет собой неплохую мишень. И, как нарочно, где–то в темноте, в кустах, осторожно ворохнулось, треснул сучок. Алексей тотчас взял винтовку на изготовку. Должно быть уловив его движение, Очир поднял голову.
– Однако, это друг его,— негромко сообщил он.— Был тут, когда я первый раз пришел сюда. Увидел меня — убежал. Потом мы с тобой приехали — опять убежал. Боится, а не уходит — наверно, друг.— Очир обернулся в ту сторону, откуда донесся шум, и крикнул: — Эй, паря, ходи сюда! Мы совсем другие люди! Которые стреляли, те давно бежали!..
В кустах долго стояла тишина. Потом там послышались возня, шорохи, после чего в темноте проступила неясная тень и стала нерешительно, то и дело останавливаясь, приближаться. Подойти незнакомец все же не решился, а остановился на почтительном расстоянии. Обличье его по–прежнему оставалось смутным. До Зверева доносились сдерживаемые и оттого особенно горестные и судорожные всхлипы.
– Подходи, не бойся,— как можно мягче проговорил Алексей и для вящей убедительности повторил слова Очира: — Мы совсем другие люди. Я инженер Зверев, а его зовут Очиром. Мы из Верхнеудинска.
Видимо, это в какой–то мере убедило и успокоило человека. Он приблизился еще на несколько шагов.
– Ты кто? Как зовут тебя? — голосом, каким говорят с детьми, спросил Зверев.
– Васька я… Разгильдяев то ись по фамилии,— гнусавым баском отозвался незнакомец и шмыгнул носом.
– Кто он? Как зовут? — Зверев кивнул на раненого.
Васька ответил не сразу.
– Известно кто — Штольник…— с заметной неохотой проговорил он.— Штольником его кличут…
– Штольником? — не понял Зверев.— Это как понимать?
– Ну, который в старых штольнях водится… То ись Штольник, выходит…
– Ах, в штольнях! Понятно, понятно…
Разговор, и с самого–то начала не особенно складный, грозил превратиться вовсе в околесицу, поэтому Алексей решил от дальнейших расспросов пока воздержаться.
Дело же, однако, было в следующем. Рабанжи и Митька Баргузин, получив от Аркадия Борисовича соответствующий приказ, выехали на Мария–Магдалининский прииск.
Еще не доезжая до него, глазастый Митька приметил человека, быстро прошмыгнувшего меж черными развалинами домов. Тогда придержали коней и, хоронясь в кустарнике, стали глядеть, что будет дальше. Ждать пришлось довольно долго. Наконец человек, на этот раз с какой–то заплечной ношей, появился, рысцой пересек открытое место и нырнул за одну из развалин. Чуть погодя он возник снова, но тут Митькина лошадь, как по наущению черта, встрепенулась, наставила куда–то уши и, храпнув, пронзительно заржала, тварь этакая. Человек враз замер, крутнул туда–сюда башкой и исчез, будто сквозь землю провалился. Митька шепотом матерился. Было ясно, что добычу спугнули, но все же решили некоторое время выждать. Так и сделали, однако среди трухлявых срубов Мария–Магдалининского, если не считать собак, никто так и не появился. Митька потерял терпение, плюнул и зло ударил коня ногой. Рабанжи, посмеиваясь, последовал за ним. На Магдалининском они быстренько обшарили развалины и нашли кое–как, видимо — второпях, спрятанные треть куля муки, непочатую жестяную банку с постным маслом, крупу и соль. Жухлицкий был прав: с его тайного склада на Мария–Магдалининском потихонечку потаскивали продукты.
Перетолковав меж собой, Рабанжи и Баргузин решили пойти по следам бежавшего похитителя.
Легко распутав нехитрые зигзаги, которые то ли с умыслом, то ли со страху выделывал удиравший, Митька в конце концов оказался на тропе, уводящей вверх по Гулакочи, и с ретивостью охотничьего пса пустился вдогонку.
В верховьях долины следы свернули вправо, в неширокий распадок. Митька заухмылялся: «Теперь уже скоро»,— и понужнул коня, торопясь до темноты настигнуть беглеца.
Миновав на рысях пару полянок, Рабанжи с Митькой вынеслись на открытое место и тут увидели неподалеку от себя устье штольни, уходящей в крутой склон правого борта распадка, жидкий костерок перед устьем и сидящего у огня человека, в котором сразу узнали Купецкого Сына.
Даже появление всех десяти покойников с Полуночно–Спорного не могло бы напугать Ваську больше. Он окаменел с отвалившейся челюстью. Но когда всадники, после малой заминки, повернули к нему, Васька запустил в приближавшихся кружкой с чаем и, отчаянно вереща, заячьим поскоком бросился к штольне. «Стой!» — загремел Баргузин и скорее для острастки шарахнул по нему из винтовки. И тут случилось не совсем понятное. Васька вдруг пропал, словно провалился, а вместо него в черном зеве штольни выросло что–то невообразимое — зверь не зверь, но как бы и не совсем человек: широченное, с руками почти до земли, косматая башка с артельный котел, и к тому же рявкнувшее таким ужасным голосищем, что кони шарахнулись, заплясали, перестали слушаться поводьев.
– Штольник! — ахнул Баргузин.
Рабанжи, которому было наплевать, кто перед ним — святой дух, черт с рогами или какой–то Штольник, тотчас выстрелил и попал. В ответ Штольник взревел еще громче, взмахнул рукой, и пущенный со страшной силой топор начисто стесал левое ухо Рабанжи, отчего тот выронил винтовку и едва не сверзился с седла. А страшилище меж тем громадными прыжками мчалось к Митьке, и у отчаянного Баргузина, не боявшегося ни ножа, ни пули, первый раз в жизни задрожали руки. Он понимал — надо немедля стрелять, но вместо того чтобы вскинуть винтовку и нажать спуск, раз за разом ошалело передергивал затвор, выбрасывая нестреляные патроны. Набежавший Штольник вырвал у него винтовку, заскрипел зубами и мгновенно согнул ее в дугу. Зрелище было чрезвычайное, и оттого Митька немного очухался. Он дико вскрикнул и так ударил коня стременами, что тот с места сорвался вскок. Однако Штольник успел ухватиться за конский хвост и, упершись, сдерживал лошадь до тех пор, пока она не ударила его копытом в живот. Но и после этого он, уже простреленный пулей Рабанжи, несколько сажен проволокся за лошадью, затем разжал руку и остался недвижим, словно труп. Только тогда Митька с трудом перевел дыхание и бросился догонять ускакавшего вперед Рабанжи…
Конечно, всего этого Купецкий Сын не мог знать. Но то, что знал, он сам, не дожидаясь вопросов, выложил Звереву. Это произошло уже после того, как раненого, все еще не очнувшегося, с трудом перенесли в штольню, в глубине которой было устроено добротное, но в то же время и очень странное жилье.
Васька угрюмо глядел на подрагивающий огонек свечи, и лицо его, заросшее многодневной щетиной, обиженно кривилось.
– …Третьего дня собак на меня напустил. Ладно, хоть ловкость во мне немалая и силушкой бог не обидел, не то б сожрали, истинный бог, сожрали. А собаки у Жухлицкого — во, с телка ростом, хвостище вроде полена и клык волчий, режет, адали бритвой. Ладно. Пусть…
А сегодня, значит, евонные хожалые при оружии налетели. Трах–бах! Ведь мамаево же побоище тут было!.. Ну, положим, отбились мы, а все ж дядя Гурьян, значит, лежит помирает… Из–за чего человека убили да и меня хотели? А на Магдалининском, вишь, немного провизии взяли — мучицы там, пшена маленько… Оно вроде, выходит, воровство, потому как не спросясь. Ладно, пусть так, а все ж истинный–то вор кто? То–то и оно, что — он, Аркадий Борисыч, истинный вор и есть. Оно ведь как: весь Чирокан с голодухи пухнет, детишки там, старики… а на Магдалининском, поверишь ли, все старые шурфы вкруговую кулями забиты. А в тех кулях что? Мука. А еще что? Рис, пшено и прочее питание для еды… На Магдалининском этом страх что творится — кругом кости человечьи, в гробу шаман орочонский лежит воет, а по ночам вылазит кости те грызть. Его, то ись шамана этого, Аркадий Борисыч поставил стеречь неправедное добро…