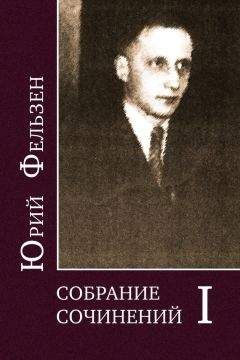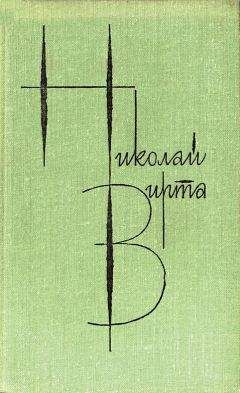Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II
Центральное произведение Джойса – «Улисс», роман, писавшийся в течение семи лет, начатый в злополучном четырнадцатом году. На девятистах убористых страницах воспроизводится один единственный день (притом «день как день» – ничем не отличающийся от других) ирландского еврея Леопольда Блюма, человека довольно обыкновенного, неглупого, хитрого, сочетающего в себе некоторую умудренность, пожалуй, даже мудрость, живую любознательность и житейскую мелочность. Большое внимание уделено его собственным о себе полусознательным, крайне откровенным мыслям, даже спорам и мнениям друзей, «психоаналитической» исповеди жены. Вообще такая обнажающая исповедь, никому не предназначенная и оттого предельно-честная – в этом почти всё творчество Джойса и в этом его наибольшая уязвимость.
У него бесконечное количество разбросанных коротеньких откликов на самые второстепенные восприятия. Им всё время упорно сопротивляешься, и если вдумаешься в причину сопротивления, то она обнаруживается с какой-то очевидной убедительностью: перекидывающиеся с одного на другое мимолетные впечатления героев «Улисса» безответственны, запутаны, не отобраны, ничего не обобщают, и ни к чему, нас задевающему, не ведут. У читателя нет доверия ко многому, что Джойсом высказывается, а то, чему веришь, не всегда трогает и не всегда представляется нужным, основное у него смешивается с бесчисленными пустяками, и буквально ничто им не подчеркивается. Если и в жизни часто перемешаны важное и мелочи (не так уж часто и неоспоримо, как это принято думать), то несомненный подвиг и дело искусства – приведение в ясность, тщательный выбор и подчеркивание.
По-моему, безоговорочное преимущество, победа и очарование Пруста в том, что он говорит о задевающем, отыскивает для каждого данного положения или персонажа отчетливую «психологическую линию» и с упрямой, железной последовательностью ее проводит через оправданно-длинные свои фразы. Ведь бывают не только отвлеченные мысли, но и мысли душевно-сердечные – о наших чувствах, о непосредственной человеческой деятельности. Их не строят, они подсказываются изнутри и, органически связанные с неуловимой текучей нашей жизнью, «обрастают», и огромная трудность и суметь их высвободить и показать – достаточно бережно, не умертвив и не порывая их связи с живой жизнью. И вот, мне кажется, одна из целей прустовского творчества – ради жизненности содействовать «обрастанию» и ради ясности самую мысль называть.
Быть может «психоаналитические» короткие мысли Джойса в чем-то похожи на легкие волны, бегущие одна за другой, а «психологическая» мысль Пруста как бы огромный водяной столб, в себя вбирающий все окрестные воды и обрушивающийся со страшной силой. Я знаю, до чего бездоказательны подобные, слишком картинные сравнения, но этим ничего и не доказываю и так поступаю лишь для наглядности.
Быть может, я обоих названных писателей друг другу противопоставляю несколько схематически, но противоположение их невольно как-то напрашивается вследствие противоположности литературных их методов. Пруст отбирает и обобщает и оттого кажется беспрерывно напрягающимся. Он также явно распоряжается своим материалом. Наоборот, Джойс как бы механически записывает свои впечатления в их случайной и неуправляемой последовательности, его цель – поддаваться этой последовательности, он неминуемо подчиняется матерьялу, и должен находиться в состоянии душевного «транса» и разряжения. Опять-таки о способах не следует спорить, но способ Пруста представляется мне достойнее, а результаты его ощутительнее.
Джойс ни к чему страстно и упрямо не приковывается, ни на чем не задерживается, он лишь скользит по различным второстепенным, внутренним и внешним, явлениям, и нередко мы у него находим какое-то легкомыслие, какое-то неуважение к тому, что он делает. Вследствие этого он вовлекается в постоянную словесную игру, в словообразования намеренно «гротескные» (вроде нелепого «Лаунтеннисон»), будто бы соответствующие мышлению чуть ли не каждого героя, на самом же деле чрезвычайно преувеличенные, не жизненные и вовсе не занимательные. У Пруста никогда не бывает самодовлеющей словесной игры.
Другое следствие такого неуважения к собственному творчеству и такого легкомыслия – вечная ирония, нескрываемый авторский смешок. Это сердит, расхолаживает читателя и напоминает о том, что ирония всегда больше от головы, чем от сердца. У Пруста через многие десятки страниц неожиданно возникают остроумные, намеренно-смешные положения, часто не связанные с предыдущим и, быть может, преследующие ту же цель, что и анекдоты чеховского профессора, пытающегося развеселить и освежить начавших скучать, утомленных своих слушателей. К такой, всё же простительной «демагогии» никогда не прибегает Толстой, и не он ли в этом смысле наиболее высокопробный пример.
Внешняя обстановка у Джойса – главным образом, рестораны и пивные, где происходят многолюдные товарищеские попойки, участники которых обмениваются бесконечными парадоксами о науке, политике и любви, причем эти парадоксы обыкновенно неубедительны и лишь оглушающе эффективны. Пьянство и разговоры героев Джойса – без просветления, без поэзии, без возвышенности. В нем есть сила, и не приходится ее отрицать, но сила его грубая и чересчур уже бесполезная.
Форма произведений Джойса разнообразнее, чем у Пруста. Последний и не стремится к разнообразию. Все четырнадцать томов его «Поисков утерянного времени» проникнуты единым дыханием, являются как бы развитием одной фразы. Джойс перепробовал все – и «психоаналитическую исповедь», и сказочное драматическое действие, по-видимому, происходящее в чьем-то пьяном воображении, и стилизованное повествование о всяких событиях в изложении и очень интеллектуальных и очень простых людей – и всевозможные замыслы Джойса обычно изобретательны и новы. Особенно удается ему один прием – ставится иронически-бессмысленный вопрос (скажем, «почему Блюм отправился туда-то?») и в ответ дается перечисление причин, неопровержимо-точных и, большей частью, нелепых. Так целая страница посвящена доказательствам полезности воды. Всё это на границе научности и шутовства, всё это читателя забавляет (а читатель порою готов дать над собою немного поиздеваться), но простая добросовестная серьезность, искренние усилия всегда предпочтительнее.
Едва ли не главная особенность Джойса – какой-то сгущенно-эротический воздух в его книгах. Любви, любовного содержания нет и в помине. Только телесная сладострастно-чувственная сторона отношений – и реализм описаний, доведенный до предела. Весь долгий эпилог – бесстыдные эротические воспоминания жены Блюма, женщины «с птичьими мозгами», с физиологией, вытеснившей всё духовное. День и ночь ее мужа, большинства его приятелей и знакомых – сплошные навязчивые видения, и такая же, хотя и не всегда благоприятствующая им действительность. В связи с этим в необыкновенном почете еда, желудок, пищеварение, уборная. Многие превозносят Джойса именно за подобную его, просто головокружительную, откровенность.
Несомненно, физиология – один из важнейших элементов человеческого существования, но еще несомненнее, что вовсе не Джойс это открыл, и что прославление уборной мы уже находим у других писателей – правда, оно у них до такой степени не являлось преобладающим. Мне кажется, соответствующие «заслуги» Джойса, новизна его «пищеварительных открытий» несоразмерно преувеличены его поклонниками. Бывают случаи, когда писателю удается высказать то самое, что его современники смутно чувствовали, но чего не могли додумать и договорить, и один из таких писателей – Пруст. Бывает и по-иному: писатель только называет собственным именем то, что другие отлично знали и без него, однако сами назвать стеснялись и не хотели. Нередко в этом новизна Джойса, на мой взгляд, наивная, недостаточная и поверхностная.
О судьбе эмигрантской литературы
Когда возникала эмигрантская литература, ее снисходительно приветствовали (все-таки – «общее дело»), но старые народники и радикальные экономисты, дававшие и доныне дающие тон, к ней относились, разумеется, скептически. Было много зловещих предсказаний, злорадно приводились неопровержимые доводы: оторванность от почвы, отсутствие аудитории, – эмигрантское искусство должно погибнуть. Старшее поколение что-то допишет, что вывезено еще из России, младшее, без быта и устоев, не напишет ровно ничего.
Иногда говорилось о том, что можно и следует работать, даже без надежды на творческую удачу, что надо послушно принимать уроки «традиционной русской литературы», то есть оставшихся в России писателей, сохранивших быт и устои и запасшихся «новыми темами». Самые благожелательные утверждали (не веря себе и своим словам), будто существует «единая русская литература», при некотором участии и эмигрантов.