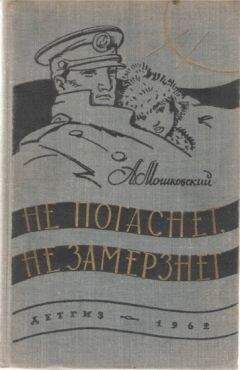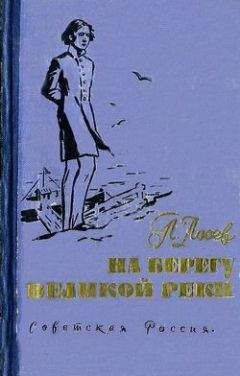Анна Караваева - Родина
— Ишь, какой ты, брат, образованный стал! А что Сережа ныне рассказывает?
— До этого, говорит, в тех местах относительное затишье было, а теперь немцы, говорит, опять напирать хотят. За сорок километров от фронта наш эшелон под бомбежку попал — пять штук «мессеров» налетели.
— Значит, нашим отбиваться пришлось? — обеспокоился Нечпорук.
— Да, уж зениткам в эшелоне довелось поработать, — подтвердил Юра таким тоном, будто он сам участвовал в этом деле.
— Татьяна Ивановна то-то, поди, дрожит да бледнеет, пока муженек о своих дорожных «приключениях» рассказывает?
— Конечно, Таня очень волнуется, когда Сережа уезжает с эшелоном, но ведь иначе нельзя, — рассудительно возразил Юра.
— Вот ведь время какое… — вздохнул Степан Данилович. — Ну, что еще Сережа рассказывает?
— Тяжелые, говорит, бои начались. Гитлеровцы столько авиации и танков подбросили, что нашим кое-где пришлось отойти. А уж народу, народу что из тех мест побежало… ой-ой! На дорогах прямо-таки черным-черно…
— Что ж, старые и малые идут… — горестно сказал Степан Данилович.
— Да, по всем видимостям, лето предстоит трудное, — задумчиво сказал вошедший Ланских, — у немца еще запас большой: со всей Европы оружия наворовал!
— М-да-а… — вздохнул Степан Данилович.
Его крупное, мясистое лицо вдруг словно обвисло всеми своими складками, потеряло всякую сановитость и выражало теперь, как показалось Нечпоруку, обыкновенную стариковскую печаль.
— Вам, молодым, думать о войне легче, — все вздыхал Степан Данилович, — у вас еще веку хватит, а мы, старики, уже по краю ходим. Может статься, покуда Красная Армия фашистских гадов изничтожит да с земли нашей прогонит да пока второй фронт откроется, мы-то, старики, уже в ящик сыграем. Я, скажем, в земле буду лежать, а товарищи мои потом скажут: «Эх, Степан, Степан, не повезло тебе: до победы не дожил…»
— Папа! — вдруг возмущенно крикнула в окно Зина. — Тебя, оказывается, без присмотра нельзя оставлять!.. А ты, Сергей, что на него смотришь?.. Вот давайте все гадать, когда кто умрет, — чудное занятие!.. Бессовестный ты, папка… честное слово!
Зина вдруг выпрыгнула из окна. Степан Данилович хотел было что-то ответить, но смог только крякнуть, — теплые, твердые руки сжали его шею, и горячая щека прижалась к его сутулому плечу.
— Ты, папа, эти «смертельные» разговоры прекрати… на себя и на других не смей тоску наводить!
— Так, так! — поддакнул Ланских. — Будем-ка вот мы все огорчаться да причитать… то-то разбойникам польза!.. Ты, дядя, эти нежности оставь, а то я тебя уважать перестану, понял?
— Вот молодец, Серега! — воодушевился Степан Данилович. — Точно, недруг наш того только и ждет, чтобы мы духом пали или бы себя окорнали: робь да робь, как заведенный, и забудь все, что душе мило, пусть-де молодые песен не поют, пусть-де и яблони пропадают втуне… Ну, нет, мы своей душе не разорители, мы все сохраним, да еще и приумножим… во как!.. Душу, разум сохранишь, так и руки чудеса творят… Бери, бери, товарищ Нечпорук, саженцы из моего питомничка, а под вечер заходи за мной — и пойдем вместе на твоем участке яблоньки сажать.
Под вечер Нечпорук со Степаном Даниловичем отправились к новому дому в стахановском городке, за Тапынью. Вскапывая землю, «Саша с-под Ростова» чувствовал угрызения совести: собираясь зачинать сад на этой чужой и скудной лесогорской земле, он словно изменял своему родному донскому чернозему.
— Ну, как вы там? Начали? — крикнула Марийка, высовываясь из окна дома.
На ее смуглой щеке рдело малиновое пятно, лицо задорно улыбалось. Густые, словно ягодный сок, капли краски падали с кисти на курчавые вороха стружек под окном.
— А я уж, побачьте, що зробыла! — и Марийка горделивым жестом указала в глубь ярко выбеленной кухни.
Широкая печь с разверстым, темнобурым, еще не обжитым чревом пестрела, как клумба. Малиновые мальвы, светлосиние звезды васильков, желтые зонтики подсолнухов с бархатночерной сердцевиной, красные растрепанные маки, зеленые узорчатые листья и высокая жирная трава, казалось, дышали свежестью и росой, будто так и положено им было красоваться на этом белом кирпичном поле.
— Здорово!.. Гарно, жинка! — похвалил Нечпорук.
Малиновая, с золотистыми тычинками, мальва словно улыбнулась ему, и грудь его перестало теснить.
— Вон какая искусница жена-то у тебя! — сказал Степан Данилович, и его тяжеловесное, складчатое лицо вдруг ласково обмякло, — Смотри, перегнала она ведь нас с тобой… Начнем-ка благословись… Бери вот антоновку уральскую и станови ее в ямку смелее… Да только легче, парень, легче, — пусть корни вольготно разместятся… Та-ак… Теперь земелькой забрасывай. Сюда шест воткни… так… Привяжи теперь ствол; вот тебе мочалинка, перевяжи нежно, чтобы кору не содрать… в такое время она и царапинки не потерпит… Теперь второе деревцо возьмем… Зачинай, ставь…
Наконец Степан Данилович разогнулся, присел на крылечко и потер себе колени.
— О-хо-хо… Вот хоть и храбришься иногда, а ноги сдают, да и сердце тоже…
Невьянцев вдруг поднял голову и посмотрел на реденький строй саженцев, обращенных к окнам домика, потом задумчиво пожевал мягкими губами.
— А все-таки, парень, когда о смерти подумаешь, так и охота ей, подлой, надерзить: «Не сожрать меня тебе, курносая, не изничтожить меня, — труд мой на земле останется, людям на пользу и утешение».
Все еще глядя на саженцы, он спросил Нечпорука:
— Что вверху, видишь?
— Где вверху? — не понял тот.
— На яблоне что, видишь?
— Ну… листочки вижу…
— Именно, именно… вон, к примеру, эти махонькие, на самой крайней…
Да, это были тонкие листочки на верхушке крайней яблони. Они зеленели еще робко и нежно, но глянец их отливал шелковистым блеском, а острые концы жарко горели и будто властно вонзались в лазурь неба. А небо, густеющее к вечеру, казалось светлее и легче там, где эти тонкие нежнозеленые копьеца яблоневых саженцев тянулись вверх и уже дышали вместе с огромным его простором.
В тот же вечер Нечпоруки перебрались в новое свое жилье. Марийка увлеченно суетилась, расставляя собранную из разных мест мебель, — одно у кого-то в доме не пригодилось, другое дано было «на подержание, пока разживетесь», а третье было отдано «навовсе», как говорили в Лесогорске.
— Мы с тобой будто опять молодожены! — подшучивала Марийка, но мужа она решительно выпроводила из дому. — От тебя помеха одна!
Она с шумом переставляла что-то, мела, скребла и, потная, с кирпичным румянцем на смуглых щеках, пела резким, как бубен, чуть гортанным голосом:
Ой, за гаем, гаем,
Гаем зелененьким,
Там орала дивчинонька
Волыком черненьким.
Орала, орала,
Не вмила гукаты,
Тай наняла козаченька
На скрыпочке граты.
Грае козак, грае,
Бровами моргае,
Вражий його батька знае,
Чого вин моргае!
Чи на мои волы,
Гей, чи на коровы,
Чи иа мое биле лычко,
Чи на чорны брови.
Нечпорук стоял на крылечке, курил, слушал и молча притопывал.
Ночью Нечпорука разбудила Марийка:
— Сашко, вставай! Да ну же, Сашко! Открой очи, дурна дытына! — услышал он сквозь сон встревоженный голос жены.
— Что? Чего тебе? — испугался Нечпорук.
— Да слухай же: ливень льет же страшно! Гроза!..
— Ливень? — фыркнул Нечпорук и повалился было опять на подушку. — Нехай его…
— Вот дурень! — вспылила Марийка и так крепко толкнула мужа, что Нечпоруку пришлось подняться с постели.
— Что ты спать не даешь, бисова баба?
— Да ветер же… вот как поломает наши яблони!.. Чуешь, как они скрыпят, бедные… ну? Иди, побачь, как они там…
Нечпорук, чертыхаясь, оделся и вышел на крылечко.
— Фу ты… полоумная! — проворчал он. — Да разве же это гроза?
Действительно, гроза уже шла стороной. Вода еще журчала в трубе, а ливень уже отшумел, и только крупный редкий дождь, разбрасываемый ветром, шальными горстями хлестал Нечпоруку в лицо. Где-то далеко лениво грохотнул гром, и сейчас же вслед в ночном мраке, пропитанном сыростью и прохладой, все умиротворенно затихло, словно ночь только и ждала этого звука из-за дальних гор и лесов. Нечпорук немного постоял на крылечке, потом, как слепой, ступил в глубокую лужу и, держась за стену, направился к своим яблонькам.
— Придумала докуку, упрямая баба! — ворчал Нечпорук, нащупывая в темноте тонкие стволы саженцев.
И деревца и шесты около них стояли прочно, лишь кое-где ослабли перевязи. Нечпорук тугими пальцами поправил их, сердясь и на свою неловкость и на Марийку, поднявшую его среди ночи.