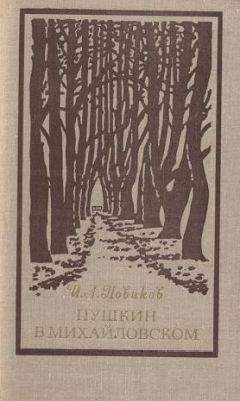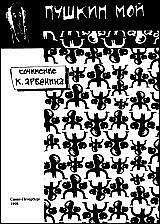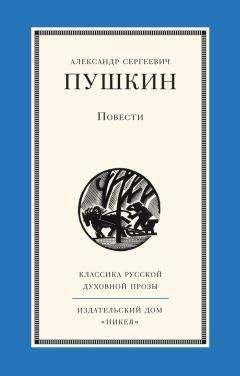Иван Новиков - Пушкин на юге
Одна черта руки моей,
Тебе довольно, друг мой нежный…
— и, зазвенев, оборвались: когда он узнал простенькое свое, с бирюзою, колечко. Это было уже что–то другое. Это не нежность. Но, боже мой, неужели ж?.. И одна волна перехлестнула другую — новая, бурная — эту, едва лишь родившуюся: эту запевшую хрупкую нежность. Все в нем забилось в смятении, а внешне он закаменел: душа не успела в этой быстрой смене принять и понести на цельной волне ни того, ни другого чувства. Так неужели же что–то непоправимое произошло?
Вероятно, это длилось всего лишь немного секунд, но даже для глаза, физически — казалось ему, что Мария вовсе не близко, тут же, у стола, она виделась ему на отдалении, а рука ее на тетради показалась такой одинокой и сиротливой, как непринятый дар. Он весь встрепенулся, преодолевая эту мороку. И совсем близко, по–прежнему, снова увидел ее, простую и ясную, с чудесной улыбкой. Эта улыбка его остановила.
— Что с вами? — спросила она. — Вы так удивились кольцу? А я и забыла о нем. («Правда ли?») А надела нарочно, вам показать, чтоб вы не думали, что я потеряла.
Все было правдой. И детский ее замысел был налицо. Только бы она ничего не заметила! Он сделал над собой усилие и что–то ответил ласково–весело.
Но ночью, когда уже лег, ему было очень горько. И казалось, что она совсем не понимает его. И где–то без слов возникала элегия о непонятной его любви. И что он скоро умрет. И голос его в мире замолкнет… Как во Флоренции умер кудрявый веселый Корсаков, милый товарищ его по лицею. А старцы останутся жить и будут глядеть рассудительно спокойными глазами, будет ли завтра вёдро иль дождь. И может быть, только одна… она все же любила меня! — только одна будет лить слезы и вспоминать золотые минуты любви.
Все это шло из глубины существа. И в то же самое время все это можно назвать: жаркое лето и молодость. Та самая молодость, что как бирюза в кольце нашей жизни.
Эти снова «юрзуфские» дни для Пушкина протекали под знаком Марии.
С Давыдовыми, проездом в Одессу, прибыли два их знакомца, молодых человека, очень воспитанные и изысканно любезные. Один из них, очень богатый и знатный, граф Густав Филиппович Олизар, откровенно влюблен был в Марию. Пушкину было досадно, что он не мог на него в полную меру сердиться: сам по себе молодой человек («к несчастию!») был симпатичен, душа у него была чувствительная и поэтическая. Однако еще большим его достоинством было то, что сама Мария, очевидно, никак не отзывалась на его нежные чувства.
Но кто особенно восхищал Пушкина, это опять–таки Николай Николаевич. Он слышал однажды, как тот говорил в кабинете Орлову:
— И что мне до того, что давний предок его созывал какой–то там сейм, а другой предок был маршалком коронного трибунала, а потом стольником великим и опять же коронным. А отец его опять–таки был маршалком коронного трибунала при Станиславе—Августе, и послом на сейме девяносто второго года, и членом русской эдукацион–ной комиссии на Литве, а брат Нарцис Филиппович сенатором состоит Царства Польского… Что мне до того?
— А вы хорошо изучили всю родословную графа!
— Изучишь, мой друг, когда он вот–вот постучится в семью: можно ль войти? А ведь различие наших религий, различие способов понимать взаимные наши обязанности, да, наконец, и различие национальностей наших…
Пушкин никак не различал национальностей в деле любви, а о религиозных различиях ему и помыслить было б смешно, но он, тем не менее, слушал это сейчас с превеликим удовольствием, ибо это воздвигало преграду между Мариею и Олизаром. Но уже поглубже надо бы было задуматься над этим «различием способов понимать взаимные наши обязанности», что особенно подчеркнул Раевский, и это была не банальная мысль о религии и национальности — то мог бы высказать и всякий другой человек старого склада, — в этом же проступал внутренний характер самого Николая Николаевича, думающего и поступающего именно что «на свой салтык». Но Пушкину некогда было особенно размышлять, — разговор шел и дальше.
— Да к тому же, — продолжал Раевский, — он уже был женат…
— На иностранке, — добавил Орлов.
— Да, на графине де Моло. И уже успел развестись. Двадцати лет от роду, и уже развелся.
«Они говорят о нас, как о мальчишках», — невольно подумалось Пушкину.
— И все маршалки, да маршалки! — опять с нескрываемым раздражением вернулся к той же теме Раевский. — И этот вот–вот станет киевским губернским маршалком… Да что мне до того!
И это опять была собственная благородная натура Раевского: он терпеть не мог величания чинами и званиями.
Вместо привычных политических разговоров вечером был домашний концерт. Граф Олизар очень недурно играл. Руки его, несколько женственные, с длинными пальцами, томно задерживались в воздухе, прежде чем упасть на клавиши. Мария пела.
Александр слушал ее издали, затаясь. Свет от свечей трепетно озарял ее все еще полудетский профиль. Как и на рисунке его, голова девушки устремлялась вперед, несколько широкая, девически нежная шея слегка колебалась, покорствуя звукам, и все это вместе было так человечески гармонично и дышало такою чудесною, не небесной, а земной чистотой, что нельзя было не поддаться общему ее обаянию.
Голос Марии совсем не был силен и не отличался какой–либо особою красотой, но, и не умея, она умела сказать в нем себя. Сказать не словами, где человек все же несколько как бы расчленяет себя и всегда надо немного подождать, чтобы по–настоящему верно понять и воспринять то основное, ради чего все и говорилось. Здесь же всякий звук и каждая мелодическая фраза воспринимались в их истинном выражении и полноте. И выражение это было живое, свое, ей одной в мире принадлежащее. Пушкин не знал и не думал о том, как это воспринимают другие, но сам он был в том состоянии, когда воспринимать — значит совместно творить. Он хорошо знал и ценил это чудесное человеческое свойство. Еще совсем юношей он писал, обращаясь к Жуковскому, о таком идеальном читателе и называл блаженным того,
Кто наслаждение прекрасным
В прекрасный получил удел
И твой восторг уразумел
Восторгом пламенным и ясным!
Так изумительно, с совершенною точностью выразил он ту особенную форму восприятия и понимания, когда чувство берет на себя эту новую для него роль — уразуметь. Только слово «восторг» не было сейчас определяющей формою чувства. Это не был порыв, это было ровное, гармонически ясное и человечески теплое раскрытие внутренней жизни души и ее восприятия мира.
Порою пел голос и о тревоге, вставали вопросы, раздумье, борение с собою самой. Это никак не была первобытная невинность птичьего пения или хрустальные звуки ручья, говорящего о непрерывном движении мира. Сложность, сознательность и острота человеческой жизни, объемлемые, впрочем, гармонией, все богатство противоречий, преодолеваемых живым человеческим «я», — вот что звучало в тот вечер для Пушкина.
Как музыку слушают? В меру богатства души самого слушающего. И еще ее слушают так, что у каждого встают свои ответные видения. Они не имеют какой–либо видимой формы, но у них есть своя жизнь, тесно сплетающаяся с разбудившими ее к бытию музыкальными образами. Так слушал и Пушкин.
То казалось ему, что его уже нет, что лира его умолкает, умолкла, и тогда–то, поняв его чувства, Мария твердит собственные его печальные стихи, где был затаен жар его сердца. То она строго допрашивала его о чувствах, растраченных в мятежной его младости, и он уверял, что это забыто и отошло, и бескорыстно, невинной, ей слал пожелание того ясного счастья, для которого она рождена, и умолял не спрашивать о прошлом, дабы не улетела беспечность доверчивой ее души. И все эти чувства и думы сами собою искали свою форму и интонацию. Он не ясно еще их осознавал, но уже возникали они, как тот самый, первичный набросок Марии, что вот, как видение, стоит перед ним — мгновенный и непреходящий: живой.
Не говоря себе слова любовь… — или сказать? — он любил ее истинно в этот короткий вечер, в который уместилась — если не вечность, так жизнь.
Эти короткие музыкальные фразы и бытие их в Марии, они в нем звучали уже — в начальном соприкосновении с чувствами, искавшими слов. Этой стихии своей верен он был органически. Время придет, и другая стихия — ясного разума — осветит и сделает видимым то, что зачато сейчас. Это еще не стихи, не те две элегии, что напишет несколько позже, но им не суждено было бы быть, если бы не было этого их зарождения в сегодняшний вечер.
Мой друг, забыты мной следы минувших лет
И младости моей мятежное теченье.
Не спрашивай меня о том, чего уж нет,
Что было мне дано в печаль и в наслажденье.
Душа твоя чиста: унынье чуждо ей;
Светла, как ясный день, младенческая совесть.
К чему тебе внимать безумства и страстей
Незанимательную повесть?
Не требуй от меня опасных откровений:
Сегодня я люблю, сегодня счастлив я.