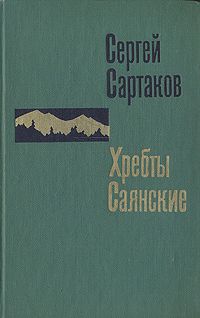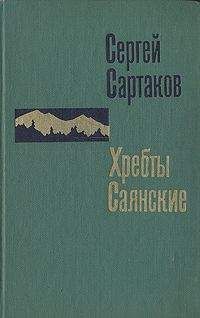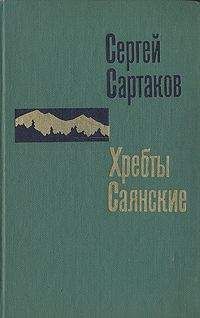Сергей Сартаков - Гольцы
Ну, а кто не устоит, того съедят. Ты это тоже запомни, Лука.
— Иван Максимович, — окончательно заробев, развел руками Федоров, — страсти одни только и слышу от вас сегодня. Скажите мне, ради господа: я-то здесь при чем? Хотя бы и с вашими бирюсинскими рудами. Сами говорите — на слюде обожглись, а уже опять про руды думаете. В одни руки целый свет вам все равно не забрать. Вот крест святой, не дам я лошадей, в убытке останусь, а все равно пойдет на Бирюсу партия.
Пойдет не пойдет, а у меня мужики по тайге уже ходят. Найдут — там будет видно, стану я ее разрабатывать или нет. А остолбить остолблю. Не за кем другим, а за мной руда закрепится. На будущее. Понял?
Что же тебе еще хочется?
Тянуть надо, Лука, тянуть. Время выигрывать.
Эк ты! Иван Максимович! Так бы и раньше сказал. Просто. Сборы задержать? Да господи! Пожалуйста! Ну на сколько оттянуть? На неделю? На две?
И не только это. Есть и другое дело. Слыхать, в наш уезд тысяч пять переселенцев прибывает. Верно это, Роман Захарович? Вам лучше знать.
Верно, — подтвердил Баранов. — Из Псковской, из Смоленской губернии едут. Там нынче опять голод, страшное дело.
Вот видишь. Надо и здесь подготовиться. Земли им казенные нарезаны…
К слову сказать, самая дрянь: болота, листвяки да низины супесные, — перебил Баранов.
…и надо сделать так, чтобы им развернуться негде было. Пусть на земле сидят, едят ее да пни выдергивают на доброе здоровье. А с земли их никуда пускать нельзя. Ни в торговлю, ни в промыслы. Понял?
Чего не понять? Знаю. Этот народ самый вредный, на все дошлый. Ему попробуй дай ходу — сам жизни будешь не рад. Только надо будет, Иван Максимович, и с другими потолковать. Один в поле не воин.
А! Вот когда тебя проняло! Потолкуй! Потолкуй с мужиками богатыми, — есть у вас в Уку зажиточные люди, — разъясни, как встречать гостей. И в Рубахиной и в Солонцах есть дружки у тебя.
Есть всюду, Иван Максимович, — согласился Федоров, — где дружки, а где и кровь своя. Черных, староста в Рубахиной, сватом приходится, в Солонцах шуряк мой живет. Могу соответствовать.
— Да, так надо сделать, Лука, чтобы не один или два
человека, а все села старожильческие зубы на них ощерили.
— Весь народ подбить, выходит.
— Именно. И не тянуть — это главное.
— Поезжу по селам, Иван Максимович, — горестно
придыхая, сказал Федоров, — надо так надо. Дела такие мне понятно делать как: ты — куму, кум — куме, кума — кумушкам. Быстро облетит.
Да, принимать меры необходимо заранее. Пропустишь время, потом не выправишь, — расстегивая ворот рубахи и обмахивая грудь клетчатым платком, заговорил Баранов. — Вам, купечеству, все же легче — каждый сам за себя, а у меня еще забота и о порядках в городе. Воровство развелось, кутежи, драки, женщин насилуют. Рапорт пригплось подать губернатору: прошу разрешения открыть публичный дом. Все же лучше. Нет иного выхода. В субботу отец Никодим рассказывал: за три месяца восемь незаконнорожденных младенцев окрестил. Ужас! Ломаются священные узы брака, устои семьи. Плохо стало. Я даже веселость прежнюю потерял, редко смеюсь.
Кто же мерзость такую, дом этот… тьфу… содержать будет? — полюбопытствовал Федоров, выпячивая губы.
Ульяна. Вдова Степашки-трактирщика.
Доброй волей?
Чудак! — пожал плечами Баранов. — Как же иначе? Все пороги обила, хлопотала. На легкий хлеб охотников много, четыре прошения в городскую управу было подано. Тоже конку-рен-ция… Вот скоро откроет — приди посмотри.
Что ты, что ты! — отшатнулся Федоров. — Это что же, значит, теперь вроде лавки откроется! Приходи, кто хочешь, и на выбор, любую… покупай?
Правильно! И ты напрасно испугался, Лука. Как-никак на Европу равняемся. Перенимаем лучшие обычаи. Я уже заходил. Подбор — лучше не придумаешь. — Баранов долго перечислял особенности девушек. — Вот только такой разве нет, как эта твоя, как ее…
— Клавдия, — ответил Иван Максимович. — Ну, такой Действительно и в Иркутске не встретишь.,
Не шути, я знаю тоже одну бабенку. Ксеньюшкой звать. Правда, в другом стиле, посуше и потемнее лицом, но формочки, — чмокнул губами, — антик с гвоздикой! Зайди к Ульяне, посмотри.
Забегу.
Только- сердида на тебя Ульяна за старика своего.
При чем я?
Спроси! Так, по-моему, порядка ради. Надоумил ты, мол, Степашку поехать к тунгусам, и лоцман твой Бурмакин утопил его.
Так ведь лоцман утопил, а не я.
И я говорю то же самое.
А кстати, не знаешь, куда угнали Бурмакина?
Здесь еще. В тюрьме, очереди дожидается. Теперь уже с первым этапом пойдет. Видимо, в Горный Зерентуй.
Знал и я Пашку. Еще мальчонком, — развел руками Федоров. — Тихий был парнишка, боязливый, а тут на-ка тебе, убивцей стал. В каторгу… Ох, и времена!
Да, времена, — насмешливо прищурившись, поддержал его Василев.
Все замолчали. За дверью, в столовой, бренчали рюмки, ножи, пробивался запах какой-то копчености. Федоров вздохнул.
Зной-то, зной, господи, как полыхает! Геенна огненная… Кажись, одну спичку сейчас — и… О господи, господи!..
7
Никита остался в старом доме Василевых один. Все имущество вывезли, и сторожить, кроме голых стен, было нечего. Но воспротивилась Степанида Кузьмовна:
Как это дом без человеческого духа оставить? Чтобы черти вселились? Избави господи! Посторожи, Ники-тушка.
И вовсе ни к чему, мамаша, — уговаривал ее Иван Максимович. — Это же и хорошо, если черти поселятся. Нам ведь в нем больше не жить. Вот сторгуемся с Гурду-сом — продам. И пусть его черти давят.
Нет, нет, — артачилась старуха, — все равно, нехорошая это примета, нехорошая. Дом — что скотина, надо из рук в руки передать. Не амбар, слава тебе господи, а жилой дом. А Гурдус хотя и татарин и скуп, мало дает, но все-таки человек же он. Нет, Ваня, уж ты послушай меня.
Иван Максимович согласился, зато Никита с ропотом принял распоряжение остаться в доме.
Боюсь, — откровенно заявил он, — боюсь.
В пустых комнатах страшно гудело эхо. По ночам в углах пищали мыши. Они бегали вдоль стен и грызли половицы. Пахло сыростью и землей.
Будто живьем в могилу закопали, — жаловался он Лакричнику, забегавшему к нему под вечер «на часок». — И глаз не кажут. Клавдею пришлют, поесть принесет — и опять один оставайся. Что я, колодник, каторжник, что ли? Продали бы дом поскорей.
А вы, Никита Антипович, не огорчайтесь, — утешал его Лакричник, — смотрите на жизнь веселее. Больше заботьтесь о своем долголетии — это главное. Все мы смертны: придет наш час, отдадим господу душу, предстанем по заслугам своим — кто в лоно Авраамово, кто в преисподнюю. Я же рассуждаю так: блажен умирающий отроком, чиста его душа безгрешная. Хорошо умереть и в преклонных годах, предварительно укротив душу на закате дней своих, отряхнув прочь нечистые помыслы. Наши же с вами годы, Никита Антипович, и в особенности мои, самые для смерти неудобные. Кипят страсти, земные желания, довлеет плоть над душой. Нет, Никита Антипович, нам еще надо жить и здравствовать, не впадать в уныние. Если разрешите, Никита Антипович, я вам предложу, — и доставал из кармана бутылку, — утешительное средство. Вино хлебное, простое, но на зубровке настоянное. Зубровку своими руками собирал. Обратите внимание на запах, Никита Антипович. Не запах, а благоухание… Я наливаю, Никита Антипович, вам первому сего сладчайшего нектара, сего сладчайшего яда…
Никита бережно принимал от Лакричника кружку, нюхал, закрывал глаза и, причмокивая, пил маленькими глотками.
Хороший вы человек, Геннадий Петрович, — говорил Никита, вытирая рот. — Со стариком бестолковым будто с другом своим разговариваете.
Вы для меня друг и есть, Никита Антипович. Я вас глубоко уважаю, невзирая на разность в образовании. Причиной тому ваш проникновенный ум. Знаю, что слова мои не проходят мимо вашего внимания и от бесед со мной вы сами духовно расцветаете. По лицу замечаю.
Никита смущенно улыбался.
Он всегда не перебивая слушал Лакричника. Видимо это больше всего и нравилось в Никите фельдшеру. Мало кто мог терпеть его разглагольствования.
Мельчает нынче народ, Никита Антипович, — вздыхал Лакричник, — оскудевает умом, сердцем и размахом души своей. Помню детство и отрочество свое веселое, превосходную жизнь достойного родителя моего, находившегося советчиком, а также и чрезвычайным доверенным по самым интимнейшим — хе-хе! — делам у незабываемого Даниила Фотиевпча Елисеева. Если бы вы знали, Никита Антипович, владельца всех приисков Северно тайги Даниила Фотиевича! Его миллионы, собственноруч но им рассеиваемые, подобно песку… Ныне таких людей нет, Никита Антипович, ныне во всем нищета духовная скаредность. И богатство не свободу человеку дает, тяжкие узы на него накладывает. Жадность границ се не имеет.
Иван Максимович с каждым по пятачку торгуется, — несмело поддержал Лакричника Никита, — изо всякого… прости господи, выгоду себе делает.