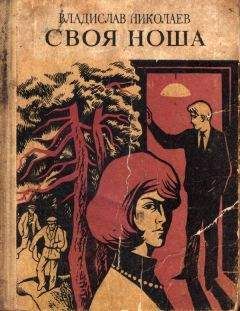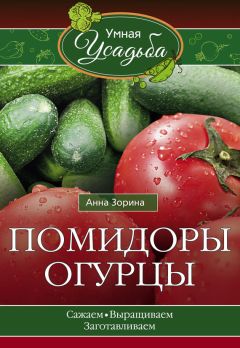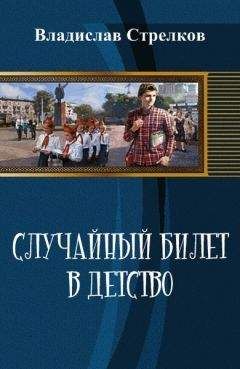Владислав Николаев - Мальчишник
— А живую, значит, нельзя ловить? — спросил Феликс, с интересом выслушавший про житие семги.
— Нельзя. Ни сетями, ни спиннингом, ни на дорожку. За голову — штраф пятьдесят рублей, а то и похуже… Здесь на каждого рыбака по охраннику.
— Как же она в ресторан-то попадает?
— Государство ловит. В низовьях вся Печора перегорожена сетями, там ее и вычерпывают, когда на нерест идет, а сюда, бают, по счету пускают.
— И всегда так было?
— Не. На моей памяти отец ловил еще свободно. Всю зиму, бывало, ели в пирогах да в ухе, а то и просто так, заместо закуски. Все мы тут на семужке выросли. А теперь — нельзя. Беречь, мол, надо рыбу…
— Мда-а, — потеребил бородку художник. — Грустно.
— Ну, и не держится народ на реке… Я вот тоже собрался рвать когти, на что уж, кажется, коренной-прекоренной. Даже деревня, в которой живу, по моей фамилии зовется — Гордеевка. Прадед мой основал ее — Гордей. Есть еще Гордеев перекат. Рассказывают, он потонул в нем. В тайге, под Уралом — Гордеев стан, где он охотился. Вон ведь как широко пустил мужик корни, а толку что — не держат они нас.
За разговором оба то и дело поглядывали на гору. Человека возле камня уже не было. Вскоре послышалось и урчание мотора — лодка уходила.
— Какая из себя она, эта семга? — спросил Феликс. — Я ее видел только в тонких ломтиках.
— Большая рыба.
— Красивая?
— У нас зовут ее красавкой.
— Вот бы посмотреть! — с заблестевшими глазами воскликнул художник.
Сашка вприщур посмотрел на него и ничего не сказал.
— Может, попытаемся поймать? — загорелся Феликс. — Всю ответственность беру на себя. Что он мне сделает, твой знакомый?
— Тебе-то ничего, вот мне…
— Да он и не увидит, вниз уплыл.
— Давайте-ка лучше займемся своими делами, — сказал Сашка, поднимаясь со скамейки.
После долгого сидения Феликс остыл к работе, да и не виделось уже вокруг ничего интересного, достойного изображения, и он снова принялся помогать Сашке — снимал с крючков хариусов, усыплял их ударом головы об лодку, чтобы не прыгали много, а сам все время раздумывал о семге-красавке, о том, как бы уговорить Сашку выловить одну; он не сомневался, что тот, несмотря на строгости, втихаря побалывается запрещенной рыбкой. «Может, меня остерегается? Надо бы показать как-то, что свой я человек».
Но показывать ему ничего не пришлось. Сашка вдруг распрямился, посмотрел на солнце, обошедшее с утра полнеба, на берестяные короба, доверху забитые хариусами, и сказал:
— Хватит на сегодня. Сейчас самая пора брать семгу.
Желание Феликса сбывалось. В предчувствии чего-то необычного у него быстрее заколотилось сердце.
Сашка между тем вынул из воды кораблик, смотал вокруг него лесу с поводками, сунул в ящик со снастью, а оттуда вытащил сухую рогатку с другой лесой, но уже без поводков и без мушек, зато с тяжелой, двухцветной блесной: сверху — золотистой, снизу — красной.
— Держи, — протянул он рогатку Феликсу. — Сядешь рядом со мной на корму. Когда я поведу лодку, распустишь всю леску. Походим с дорожкой.
Сашка поднял якорь, включил мотор, и лодка заскользила вниз по реке; Феликс, как и велено было, перебрался в корму, выкинул за борт блесну и стал распускать леску.
На тихом ходу лодка широкими кругами двигалась под перекатом. Сжав в обеих руках рогатку и затаив дыхание, Феликс ждал… Но чуда не было. Второй, третий, четвертый круг… Нет, не из удачливых он, не видать ему семги-красавки. Он устал ждать, нервное напряжение перешло в сонливость, потянуло на зевоту, и тут вдруг дернуло, дернуло с такой силой, что он чуть не перевернулся с раскрытым ртом за борт. «То-то бы нахлебался!» — мелькнуло в голове, а рогатка все рвалась из рук, обжигала ладонь. Феликс беспомощно оглянулся на Сашку. Тот выключил мотор и знаком потребовал рогатку себе, но Феликс теперь не расстался бы с ней ни за какие блага на свете.
Лодку несло по течению. Леска внезапно ослабла. «Неужели сорвалась, неужели ушла?» — в отчаянии думал Феликс, легко выбирая намокшую стилоновую нить. Он выбрал не меньше трети. И снова рвануло. В тот же миг показалась и сама рыба. Она встала на хвосте — большая, грозная и как бы разъяренная, ослепительно сверкнула на солнце белым брюхом — и опять бухнулась в воду, бухнулась с громовым, подобным пушечному выстрелу, звуком, и по воде во все стороны пошли крутые круги. И началось, и началось! Туго натянутая леса не ослабевала больше ни на секунду — струнно звенела, ходила из стороны в сторону, увлекая за собой лодку; рыба то заныривала вглубь, то показывалась у самой поверхности, переворачивалась вверх белым, будто эмалевым брюхом, и в воде представлялась совсем маленькой, не больше хариуса, и не верилось, что это она с такой силой и яростью рвет из рук крепкую стилоновую жилу.
Игра была древняя, первобытная, и первобытный восторг распалил художника, и сам он ощущал себя первобытным, готовым на все — хоть в воду… Однако полностью он не забылся, чувствовал под ложечкой неприятный холодок страха, умерявший его первобытность, — в самом ли деле сошел с горы Дерябин, не притаился ли там за камнем, не наводит ли сейчас на него бинокль? Может быть, прокрался по берегу и рассматривает в упор, фотографирует. Но что ему может сделать Дерябин, снасть-то не его — Сашкина, и сам он тут сбоку припека, проезжий, да и убрался Дерябин, убрался, они ведь оба слышали…
Феликс беспокойно оглядывался на Сашку, но тот не понимал его взгляда, ободряюще улыбался, кивал головой, как бы говоря, что все он делает правильно, и рыба никуда не уйдет от них.
Рыба умаялась вконец, уходилась, и последние метры дались легко. Сашка перегнулся через борт, схватил одной рукой за хвост, другую с привычной сноровкой запустил за жабры и тут же выхватил всю в лодку. Рыба даже и не билась, только водила тяжело сиреневыми в крапинку боками. Дальше было просто. Сашка вытащил из кармана складень, разомкнул, вонзил острие чуть пониже головы — одним взмахом развалил рыбину по брюху до хвоста. Брызнула алая кровь. Открылись в пленках два продолговатых жгута, плотно набитых золотисто-прозрачными зернами икры. Икра лежала в жгутах полукружьями, похожими на апельсиновые дольки.
Никогда еще у Феликса так высоко не взлетали чувства. Он во все глаза смотрел на мертвую, враз потускневшую и как бы завядшую рыбину, на крупную, как ягоды, икру в дольках, на Сашку, споласкивающего нож в реке, и воспламененно думал: вот о чем надо писать, вот о чем! К черту «Рыбака». Никакого рыбака он писать не станет — столько их писано-переписано, что и нового ничего не скажешь, — а напишет «Браконьера», и в нем будет все, что он сейчас увидел и пережил, — и красавица семга, и Сашка, и ощущение первобытности, и страх, звериный страх перед рекой, перед самой рыбиной, перед всем белым светом.
…Вечером Сашка, Феликс и Вера сидели на стану вокруг костра и хлебали из мисок очищенную от пленок свежую икру. Феликс еще не остыл после рыбалки, нервно дергался, закатывал глаза, тряс узкой христосовской бородкой, вспоминал:
— Ах, какая была рыбина! Как на хвост вставала! Как леску рвала! Чудом в лодке усидел! А если бы вывалился, если бы не удержал в руках рогатку — ушла бы. О, я бы не пережил этого, утопился!
— Далеко не ушла бы, — успокаивал разволновавшегося художника Сашка. — У нас иногда рогатку нарочно в воду бросают, дают рыбе самой умучиться.
Феликс, не вникая в Сашкины слова, уже перескакивал на другое:
— Ах, так и тает, так и тает! В Москве ведь не поверят, что мы ложками хлебали свежую икру. Да я и сам себе не поверю. Хоть не уезжай отсюда никуда.
— Живите до зимы. Мне повеселее будет, да и помощники из вас хорошие, — улыбнулся Сашка и кивнул головой на белопенный, без единого раздавленного комарика полог, висевший на молодой березке; рядом, на других березках, сушились его портки, рубашки, носки — все это перестирала в их отсутствие Вера; подле костра стоял в закопченных ведрах ею же приготовленный ужин — суп со свиной тушенкой и макаронами, компот из сухофруктов.
— Хозяйка! — похвалил Сашка.
— Это она харч отрабатывает, — подмигнул Феликс. — А дома не упросишь и носовой платок выстирать.
— Как тебе не стыдно! — вспыхнула Вера.
— Шучу, шучу… Я тоже время зря не терял. Не веришь? Сейчас покажу.
Он смахнул с колен вылизанную до блеска миску и убежал к лодке. Вернулся с этюдником.
— Теперь ты не скажешь, что мало работаю, — говорил он, вытаскивая из ящика толстую пачку этюдов. — Половину Александру, половину тебе. Смотрите.
— Да ведь это я! — удивился Сашка, разглядывая верхний картон.
— Узнаешь? — радостно отозвался художник.
— Ну, как не узнать… И это опять я, — уставился Сашка на другой рисунок.
— Ты, ты!
— Хм, — засмущался Сашка. — Разве я так уж интересен, чтобы столько трудов на меня положить.