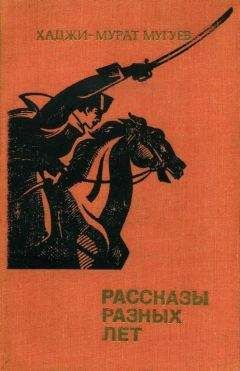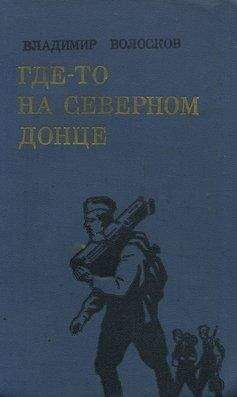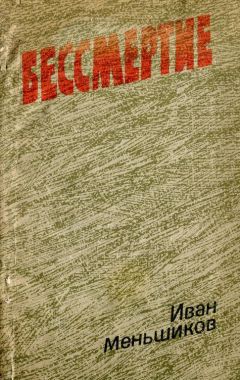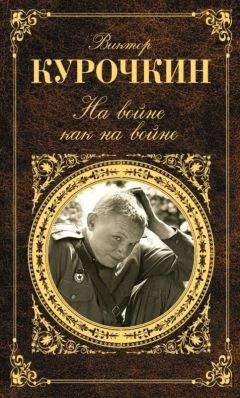Василий Оглоблин - Кукушкины слезы
Проговорив эти слова, дед выпрямился, сердито огляделся кругом и даже ногой притопнул.
— Душа у тебя, Наталья, добрая. Знаю — простила. Спасибо. А теперя все! Пожил. Хватит. Жди меня, Наталья. Жди. Скоро и явлюсь, етово-тово.
Долго сидел так дед Тарас, траву шелковистую на дорогом холмике бережно гладил, листики прошлогодние, засохшие из молодой зелени выщипывал. И опять, уже вдруге, поймал себя на мысли, что вовсе не думается ему о смерти. Сидит у могил, о смерти говорит, а скорби настоящей в душе нет, и страха, холодящего сердце, нет. А земные грешные мысли лезут в голову, вытесняют возвышенные и скорбные: «Груня что-то раздобрела уж очень, в теле шибко округляться почала, может, парня носит?» И тут же спохватился, резко дернул себя за ус.
— Ах ты, пес старый, о каких делах в таком месте помышляешь? — рассердился на себя дед Тарас, резко встал, поклонился низко крестам и зашагал к низкорослым горбатым воротам, скоро опять же зашагал, бодро, и кладбищенские заросли жимолости и бузины пугливо и покорно расступились перед ним.
Домой вернулся мрачный, тенью поблукал по подворью, что в руки ни возьмет — все из рук валится. Зашел в хату, заглянул в макитру — вареники остывшие. Поморщился. Бухнулся в чем был на постель, вбил остановившиеся глаза в потолок, да так и лежал неподвижно, пока не задремал. Очнулся — тихо вокруг, луна запуталась в густой кроне явора, рядом Груня спит, посапывает сладко, сны, небось, видит. Молодая еще, сладко спится после фермы. Ворочался с боку на бок, вздыхал: «Не усну». Встал, вышел во двор, прошелся, неловко ступая босыми ногами на теплую землю, сел под сараем на колоду, неловко показалось — пересел на дубовый чурбан, на котором дрова колет. Огляделся, прислушался. Земля спала, небо дышало тревожно и таинственно, хрущи в кроне гудели. Где-то, прямо над головой, на осокоре должно быть, вскрикнула во сне птица, да так пугливо, так жалостливо, что Тарас вздрогнул. «Ишь ты, сон дурной привиделся». Заметил: ушат десятиведерный стоит посередке двора. «Сроду не приберет Груня до места», — незло подумал и хотел было встать, прибрать ушат, глядь, а в него луна до краев налила жидкого света, и начал он плескаться через край, потек в разные стороны бесшумными ручейками. «Так и жизнь моя по края переполнена, — подумал Тарас, — а что поделаешь? Время, етово-тово. Вот абрикос цвел, плоды завязались и уже красуются под солнцем, соком сладким наливаются, а созреют — к земле потянет. Так вот и я. Просто все и мудро: поцвел, пошумел, сделал свое дело — уступи место другим... А зря осенью не посадил абрикосы, пустует земля, бурьяном зарастает, жив буду — осенью непременно посажу десяток абрикосов...»
Пока дед ворочал неуклюжие и противоречивые мысли, лунный свет из ушата весь вытек. Развиднелось, небо рассинилось, распахнулось вширь и вглубь, на востоке обозначилась алая полоска, с левады потянуло шелковым ветерком.
Встал Тарас с чурбана, постоял минуту в раздумье, шагнул в сарай, легко вскинул вверх лестницу, полез, кряхтя, под потолок. Там в надежном месте добротные припасены доски, от Натальиного гроба остались, так и загадывал тогда: «На мою домовину точь-в-точь хватит». Вытянул доски, сносил к верстаку, достал рубанок, фуганок, огляделся по сторонам.
— Эхма, отцвели кукушечкины слезки, отцвели, отплакали...
Засучил выше локтя рукава у рубахи, сплюнул на ладони и пошел стругать так, что скоро весь наполнился хмельным, веселым духом сосновой смолки, а босые дедовы ноги погрузли в ворохах стружки.
Позевывая и почесываясь, вошла Груня, разрумянившаяся после сладкого утреннего сна, толстая коса на голове в корону уложена. Посмотрела на мужа, прикрикнуть хотела, чего, мол, ни свет ни заря черти подняли, да залюбовалась: красив дед в работе, ух, как красив! Серебряные кудри врассыпную, в разлете мохнатых бровей — напряжение, а у самого разбровья, слепив волоски, перекатываются две крупные капли пота, а в каплях — солнце. Полюбовалась Груня, сказала уже кротко, ласково:
— И чего это ты, Тарас, строить надумал?
— Домовину вот себе приготовлю, смерть моя скоро, — сказал глухим голосом, не отрываясь от работы.
— Да ты что, аль не в себе, аль белены поел вчерась в леваде?
— Чую смерть, Груня, прощаться нам с тобой скоро, недолго потешила ты мою старость одинокую.
Груня попятилась, плаксиво сморщилась, зашмыгала по-детски носом, захныкала жалобно:
— Тарасушка, господь с тобой, что это ты надумал живым себя хоронить? Ядреный ты вон какой, тебе еще жить да жить, а душой-то и совсем молод, а ли я пошла бы за старика, сам подумай?
— Вытекла жизнь моя, Груня, как лунный свет из ушата, и буду я в путь собираться, к Наталушке. Отцвели, слышь, кукушкины слезы, отцвели, Грунюшка, и завяли...
— К Наталушке? — Груня смахнула передником слезы, уперла в бока сильные красивые руки, грозно свела черные брови. — Ах, так ты к Наталушке? Ее свел своими причудами раньше времени в могилу, теперь до меня добираешься, меня хочешь уморить, тихоня? Правду говорят люди добрые, что в тихом болоте черти живут. Брось стругать, брось, я тебе сказала! Попалю! Все до единой щепки попалю! Я тебе дам домовину, я тебе покажу лунный свет, я тебе покажу кукушкины слезы! Умирать собрался... ха-ха-ха... смерть он свою чует, я тебе дам смерть, бугай круторогий, в ярмо тебя впрячь надо да землю пахать заставить!
Сильным и сочным, срывающимся от волнения голосом Груня выкрикивала незлые угрозы и не заметила, как сзади, весело размахивая халатом, подкралась Фрося, напарница и подруга Груни.
— Чего это ни свет ни заря не поделили? Чего, Груня, раскричалась? Пойдем, на ферме на телят докричишь.
И, тормоша и обнимая Груню, спохватилась:
— Доброе вам утречко. Идем, идем, Груня, уже не рано, а пока до табора дотопаем, то солнце припекать потылицу начнет.
Груня улыбнулась совсем умиротворенно, и по лицу ее скользнула грустная тень.
— На телят, Фрося, столь зла не скопишь, сколь скопилось на упрямца этого. — Груня обняла щупленькую Фросю за талию и, погрозив в спину продолжающему стругать Тарасу кулаком, пошла со двора. — Фросенька, умирать старый-то мой собрался, домовину себе ладит.
— Да ну? — искренне удивилась Фрося. — Так-таки и домовину?
— Домовину, Фросенька, и какая его муха укусила — ума не приложу. Был дед как дед, а тут сбесился.
— Стар он уже, Груня, вот и готовится к смерти, помоложе бы ты выбирала...
— Помоложе, помоложе, мово-то молодого, Фрося, война-разлучница с миной повенчала, так я его сердечного, с той поры ни разу в глаза и не видывала, во сне только и обнимал меня жаркими руками; вот старика и поженила на себе, силком поженила и не жалковала, да и теперь не жалкую. Он старик, старик, а утешник, горюшко мое бабье нет-нет да и развеет и утешит, утешит. Ядреный он еще, Фрося. Мужик как мужик, все на месте, иной и молодой-то навряд с ним сравнится. И чего он помирать собрался? Может, опять заманить в табор, под вербы ночкой лунною? А, Фросенька?
Груня весело захохотала. В памяти промелькнула та чудная ночь: плакучая ива расплетала и мыла длинные рыжие косы в размечтавшейся Ольханке, посередке реки месяц купался, дурашливо разбрызгивая золотые искры капель, на западе погромыхивало — гроза надвигалась. Свежее сено щедро расточало горько-медовые запахи. А кулик в котлявинке плакал, плакал. Потом отпахли тмином и сморенным смородиновым листом сентябрьские сумерки и торопливо отцвел по яругам жар-вереск, веселые подходили ужинки. Тогда-то и пришла в хату к деду Тарасу Груня и сказала коротко: «Вот что, дед Тарас, хорошо было в лунную ночку под вербами любиться-миловаться, красоту бабью пить полной чашей, теперь рассчитывайся, жить у тебя стану, женой твоей хочу быть, так-то...» И начала хозяйничать в просторной дедовой хате. А когда стылыми осенними туманами потянуло от Ольханки и первые зазимки начали по ночам сковывать притихшую землю, поняла Груня: быть и ей, вечной вдовушке, матерью — и засветилась теплой радостью. Дед Тарас оказался мужиком, да еще каким...
Женщины шли молча. Тропинка, то обтекая густые заросли речного ивняка и верболоза, то весело скатываясь в лощинки, тянулась по травянистому берегу полноводной, местами выплеснувшейся из берегов Ольханки.
— Ой, Фросенька, а мне невесело чегой-то, помрет дед-то мой, а я вот-вот матерью стану, кто нянчить малыша будет, а? Годится дед мой в няньки, Фросюшка? — Груня невесело засмеялась, плеснув по сторонам черными цыганскими очами. — Погоди, Фросюшка, я ему, кобелю старому, двойню скоро припру, враз отямится, некогда будет, баюкаючи, о смерти помышлять и домовину себе ладить.
Теперь хохотали вместе.
— Подари, Груня, подари ему двойню. А ребеночки-то родными будут деду али от кума? — лукаво усмехаясь, посмотрела Фрося в горячие подружкины глаза.
— Ты что? — вспыхнула Груня. — Я — мужняя жена.