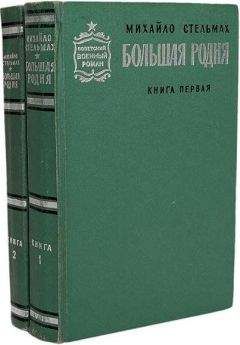Михаил Стельмах - Четыре брода
Вернувшись на свое место, Данило увидел, что из-под подушки торчит уголок какой-то книжки. Это были украинские «Думы». Он раскрыл их и с жадностью, как, кажется, никогда раньше, припал к трагедийному и героическому слову, к трагедийной и героической истории, и она начала заглушать его боли большими болями и лечить надломленную ветку его духа. Он видел далекое килиимское поле, и казака Голоту в бою, и ту годину, когда из голубого вечера выезжал червонный казак Терентий.
Ой поле килиїмське!
Бодай же ти лiто й зиму зеленiло,
Як ти мене при нещасливiй годинi сподобило!
Дай же, боже, щоб козаки пили та гуляли,
Хорошiї мислi мали
I неприятеля пiд нозi топтали.
Слава не вмре, не поляже
Од нинi до вiка,
Даруй, боже, на многiї лiта!
«Нет, слава наша не умрет, не поляжет. Временное минует, а вечное останется. Но кто из нас не хочет и своими деяниями, и своими помыслами прикоснуться не только к скоропреходящему?»
Уже предвечерьем заголубел день, уже и сизые тени вползли в клуню, за селом пошел разноголосый рев коров, а улицы запахли пылью, лугами и молоком, когда дверцы клуни открыла и сразу же закрыла тетка Марина.
— Данилко, как ты там? — даже слышно, как бьется тревога не только в слове, но и в сердце женщины.
— Учу думы, может, когда-нибудь пригодится, — и что-то вроде улыбки выдавил на губах.
— Эту книжку мне тоже в столице подарили. А я тебе поесть принесла — первую молодую картошку с укропом. Ты любил ее когда-то, и твой отец любил, — сказала тетка Марина и метнулась в закуток, откуда вынесла бочонок, фартуком вытерла его, поставила на землю, перевернула вверх дном, умостила на днище горшок, из которого поднимался пар, кувшин с холодным кислым молоком, хлеб и огурцы — простую крестьянскую вечерю, напомнившую ему те годы, когда еще живы были его отец и мать.
— Может, вместе повечеряем?
— Да нет, — вздохнула женщина, сняла с его чуба засохшую травинку, а когда Данило начал вечерять, скорбно подперла рукой щеку. Вот так и его мать в тревожную годину стояла бы возле него.
Сквозь щели заглянул лунный свет, он еще больше подчеркнул тени женской печали, и Данило не знал, что ему сказать, как поблагодарить эту добрую душу, для которой чье-то горе всегда становилось ее горем.
— Спасибо, тетушка.
— Не за что, — снова вздохнула она. — А тебе, Данилко, где-то более безопасное место надо искать.
Он молча поглядел на женщину.
— Недавно как из пекла выскочил ублюдок Степочка Магазанник и рыскал вокруг хаты. В хату сунулся, о тебе спрашивал. А потом даже в хлев заглянул — там двери были открыты. Я и спросила: «Может, и в клуню хватит совести залезть?» Сверкнул он глазами, словно волк, пробормотал о «таком времени» и «вообче», да и подался куда-то. Вот и выпадает тебе снова дорога.
Тетка Марина прижалась к его плечу. Данило ощутил ее трепет, ее боль.
— Не надо, тетушка. — Поцеловал женщину, поклонился ей. — Я сейчас и пойду.
— Еще рано. Пусть совсем стемнеет. Я тебе еще торбочку принесу: там хлеб, кусок сала, рушник… Пусть никто не собирает так родных в дорогу, как собираю я тебя, — провела пальцем по ресницам, пригнулась и, словно тень, вышла из клуни.
И снова ночь тревог, и полынной горечи и неизвестности. Тетушкиным садочком осторожно выходит он к огородным воротцам и оторопело останавливается: ему показалось, что вдруг напала оживать половецкая баба. Чудится? Нет, в самом деле шевельнулся старинный камень, неожиданно раздвоился, и от него отделилась какая-то приникшая фигура.
— Степочка?! — невольно вырвалось у Данила.
— Эге ж, он! — злорадно отозвался Степочка, потом торопливо ринулся от половецкой бабы к дорожке, сжал увесистые кулаки. — Так вот, гражданин Бондаренко, вы не хотели мне ни написать, ни подписать характеристику. А сейчас я вам напишу свою характеристику! — со злорадством, победно становится против Данила.
— А разве ты до сих пор не писал на меня своих характеристик-доносов?
— Писал! По доброй воле писал! И верно делал, потому как это мой актив! Только не вздумайте бежать, а то я криком подниму на ноги всю улицу и село.
— Или сам, негодяй, слетишь с ног!
Разъярился и со всей силы ударил кулаком Степочку. Тот пошатнулся, пригнулся и в грудь, под ложечку, ударил Данила, но от второго удара упал на землю, застонал.
Данило наклонился над ним.
— Не бейте… Я больше не буду.
Корчась, Степочка обхватил руками голову, а Данило поглядел на свой кулак. Впервые он бил человека… А может, изверга?
Степочка вскочил на ноги и так драпанул по стежке, что только пятки засверкали.
За большим ясеневым столом, который, как и все в хате, смастерил Лаврин, печально сидела семья. Ни тебе пересмешек близнецов, ни задиристости Ярины, ни шуток или командования Олены. Только и слышались шелест огня в печи да шепот камышей и волны из брода.
«Давно печаль не ходила так по нашей хате. Да вот и у нас не завтрак, а поминки, — вздохнул Лаврин и снова вспомнил ночь, когда прощался с Данилом. — Где он теперь терзает душу кривдой?»
Муж первым положил ложку, поднялся и застыл, прислушиваясь: на подворье забухали чьи-то шаги. Чьи же? У соседей нет такой нетерпеливости в ногах.
И вот неожиданно, внося новые торбочки галифе в хату, порывисто входит Ступач. Кого-кого, а такого гостя никто не ждал. Десять глаз поднялось на него — и хотя бы тебе одно слово.
Ступач снимает картуз, бережно кладет его на ладонь и насмешливо нацеливается на хозяина, который почему-то меняется в лице: не страх ли заползает в него?
— Не помешал?
— Пока нет, — мрачно говорит Лаврин. Оно бы полагалось пригласить гостя к столу, да пусть его рогатые в казаны приглашают.
— Дядько Лаврин, вы, говорят, ночью видели Бондаренко?
— Видел, — еще больше мрачнеет хозяин.
— Куда он бежал? — уже начинает в душе гневаться Ступач: даже сесть не предложили.
— Не бежал, а шел себе.
— Но куда шел? — еще грознее становится Ступач, и ерши его бровей вскакивают на лоб.
После этого Роман и Василь сразу поднимаются со скамьи.
— Куда он направлялся, я вам потом скажу. — Хозяин вышел из-за стола и решительно стал напротив Ступача, высокий, золотистый, как подсолнух.
— Когда же это потом?! — не терпится пришельцу.
Лаврин бросает на него взгляд, в котором нет страха, а есть упорство и непримиримость.
— Вот послушайте. Вы, даже не поздоровавшись, уже задали мне три вопроса. Задам и я вам хоть один.
— Задавайте, — пренебрежительно прищурился Ступач: что ему может сказать этот медлительный, как минувший век, дядько? Про сено-солому?
— Ведь вы же учились по школам, по институтам, сушили голову над книгами да науками, а хоть раз когда-нибудь подумали: как и для чего живете на свете?
— Это что?! — ошеломленно вскрикнул Ступач. Он увидел другого Лаврина, на лице которого уже выражалось презрение и гнев. — Что это?!
— Вопрос, и только один. Если не хотите отвечать, то я вам скажу. За весь свой век вы не стали ни пахарем, ни сеятелем в поле, ни советчиком в хате. Почему же вы так стремительно бросились крошить нашу силу и нашу жизнь? Или у вас от злобы ум облысел?
— Молчи! — выкрикнул Ступач, сжав кулаки.
— А может, ты помолчишь предо мною, ведь это я тебя, нечестивца, хлебом, а не кладбищенской землей кормлю?!
— Тату! — вскрикнули близнецы. Они тоже не узнавали своего спокойного отца и стали подле него, готовые смолотить Ступача, как сноп.
Лаврин взглянул на них, утихомирил движением руки.
— Эге ж, сыны, я ваш тато. А спросите этого себялюбца: может ли он называться отцом своих детей?
Ступач хотел что-то сказать, но захлебнулся недосказанным и бросился к порогу.
— Думать надо, — вдогонку ему уже тихо сказал Лаврин. — А то чего стоит и служба, и ученость, и все года без хорошей мысли и настоящего дела?..
Как из огня выскочил Ступач на подворье, распугал кур и уток, а гуси, вытянув шеи, зашипели и двинулись на него. Еще смотри гусак, у которого почему-то лебединая, с венчиком, голова, и долбанет тебя, на радость новому твоему кучеру, что за воротами подпирает спиной бричку.
— Кыш, кыш, проклятые! — машет руками Ступач и поскорее уносит ноги на улицу. — Фу!
— Жарко? — весело кривит губы круглолицый кучер Лаврик, у которого всегда под ресницами ухмылка со слезой.
— Гони!
— Аллюр три креста? — прыскает кучер и заранее лезет рукой к глазам.
— Еще что-нибудь очень умное брякни!
— Молчу — воды не замучу, — сжимает тот непослушные губы, которым так хочется повеселиться, погулять на широком лице. Лаврик садится на бричку, дергает вожжи, и кони с белыми пятнами на лбах, разбрызгивая росу с кучерявого спорыша, трусят на середину улицы. — Ох, и хорошо же тут! А берег так и поет челнами. Махнем через брод?