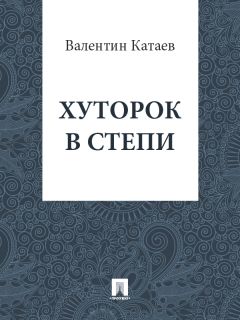Валентин Катаев - Катакомбы
– Кто его знает… Видно, в чужую душу не влезешь.
– Нет, я не об этом. Как он в детстве, в гимназии? По природе было в нем что-нибудь предательское или не было? Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, там, по отношению к товарищам… Не ябедничал? Не шептал на ухо учителям?
– Это нет, – решительно сказал Петр Васильевич. – Вообще всегда был замечательный товарищ. Но, повторяю, как видно, в чужую душу не влезешь.
Казалось, эти последние слова Петра Васильевича не привлекли особого внимания Дружинина, как-то скользнули мимо.
– Да, бывает… – сказал он равнодушно. – Ну, а потом? Во время гражданской войны, интервенции?
– Вместе со мной служил на бронепоезде "Ленин". Можно сказать, устанавливали Советскую власть в Одессе.
– Так… – Дружинин задумался. – Он коренной одессит?
– Коренной.
– Так, может быть, он нам поможет найти профессора Светловидова? Как вы думаете?
Петр Васильевич с недоумением, почти с испугом уставился на Дружинина не шутит ли он? Но, по-видимому, Дружинин не шутил, так как сейчас же стал развивать свою мысль:
– Обычно все коренные жители так или иначе знают друг друга. Во всяком случае, слышали друг о друге. Всегда могут найтись общие знакомые, родственники. Не так ли? Я думаю, Колесничук поможет вам отыскать Африкана Африкановича.
Теперь уже Дружинин говорил о посещении Колесничука Петром Васильевичем как о чем-то решенном и вполне естественном. Он уже не советовался, а в мягкой форме приказал:
– У нас имеются сведения, что немцы и румыны отпускают военнопленных местных жителей. Вы – местный житель. Место вашего рождения – Одесса. Так что вам будет легко договориться с Колесничуком.
– Я буду договариваться с Колесничуком?! – мрачно спросил Петр Васильевич.
– Ну да, вам придется с ним как-то объясниться. И этот вариант будет самый естественный. Мне кажется, вы что-то говорили о своих вещах, которые вы оставили у Колесничука на квартире?
– Да, – угрюмо сказал Петр Васильевич. – Я оставил у этого типа свой штатский костюм, ботинки, пальто, диссертацию.
– Это замечательно! – воскликнул Дружинин, потирая руки. – Просто замечательно! Стало быть, вы пойдете к Колесничуку за своими вещами.
Петр Васильевич издал горлом отрывистый звук и стал нервно мять пальцами щеки, подбородок.
– Слушайте, – сказал он глухо, – вы меня лучше не посылайте к этому мерзавцу… Ничего не получится… Потому что я… потому что я… набью ему морду! – вдруг воскликнул Петр Васильевич дрожащим голосом.
– Только тихо! – заметил Миша.
– Клянусь вам честью, я набью ему морду, – убежденно, со слезами в голосе повторил Петр Васильевич шепотом.
– Не думаю, – сухо сказал Дружинин и стал грызть ногти.
А Миша только махнул рукой и перевалился на другой бок, стараясь поудобнее устроиться на острой поверхности скалы.
Петр Васильевич некоторое время посапывал носом и блестел глазами, в которых таинственно отражались утренние звезды. Дружинин терпеливо переждал, пока он отсопится, и потом миролюбиво продолжал:
– Между делом вы у Колесничука позондируйте почву насчет Африкана Африкановича и, если вам повезет и вы что-нибудь узнаете, отправляйтесь прямо к нему и посоветуйтесь относительно входа в катакомбы в черте города. Словом, разузнайте, не поленитесь. Это очень важно.
– Я набью ему морду, – грустно сказал Петр Васильевич.
Дружинин некоторое время молча грыз ногти, а потом, как бы вскользь, заметил:
– По-видимому, этот самый Африкан Африканович Светловидов – хороший человек. Но все же будьте крайне осторожны. Учтите, что оккупанты хватают людей за одно только слово "катакомбы". Для них это страшное, ненавистное слово… Мы будем вас ждать в сточной трубе.
38. ТРАНСНИСТРИЯ
Петр Васильевич шел по бывшей Ришельевской улице и пытался взглянуть на себя со стороны: кто же он такой, в конце концов, этот немолодой, но довольно моложавый человек в кремовых фланелевых брюках, украинской рубашке без галстука, с толстой бамбуковой тростью на плече и синим пиджаком, повешенным на круглую ручку этой трости? Не может ли он обратить на себя внимание каким-нибудь несоответствием в одежде, в манере курить, в походке?.. Сколько раз он уже в разных обличьях выходил в город по заданиям Дружинина – и всякий раз испытывал одно и то же чувство раздражения. Он несколько раз мельком оглядывал себя в стекла витрин, а один раз даже остановился перед мутным уличным зеркалом и некоторое время всматривался в свое бритое загорелое лицо, поправляя карманной расческой мокрые после купанья, зачесанные назад черные волосы с небольшой проседью. Бывший советский служащий, благополучно прошедший все проверки и регистрации и теперь мирно сотрудничающий с немцами и румынами, изменник родины, продажная шкура, мещанин, обыватель? Старый белогвардеец, вернувшийся наконец после многолетней эмиграции в свой родной город? Мелкий торгаш, человек без родины, без принципов, без совести и чести, признающий в жизни только одно: свое маленькое, жалкое существование?.. Носить эту омерзительную маску сердце Петра Васильевича не соглашалось. Но не оно сейчас руководило жизнью Петра Васильевича. Всю тяжесть этого унизительного маскарада принял на себя разум.
Петр Васильевич еще раз, бегло прищурившись, осмотрел себя в зеркало. Да, он годился. Нельзя сказать, чтобы он вполне сливался с пейзажем, но, во всяком случае, не слишком выделялся: не бросался в глаза и не вызывал подозрений.
Было что-то слишком провинциальное, даже местечковое во всех этих бывших советских магазинах, превращенных теперь в жалкие частные лавочки с выгоревшим на солнце гнилым румынским и немецким товаром. Дома не очень сильно пострадали от бомбежек, но все же несколько рассыпавшихся строений, успевших зарасти бурьяном, зияли в перспективе некогда богатой, красивой улицы удручающими пустотами.
Было совсем мало прохожих, и они шли не по тротуару, а по мостовой, толкая самодельные тележки с домашними вещами и мебелью. Они шли сбивчивым, торопливым шагом, опустив голову и стараясь не смотреть по сторонам. Визг железных колесиков надрывал душу. От одного этого нищенского визга можно было сойти с ума. Это был звук подавленного человеческого горя, мучительный звук рабства. И он был в таком вопиющем противоречии с прелестью знойного августовского утра!
А утро было действительно прелестным. В нем соединялась вся сила южного лета, достигшего полной зрелости, полного своего расцвета, с ясным предчувствием мечтательной золотистой осени, которая уже блестела вокруг, по всему побережью, по пустому жнивью, по баштанам, по полям желтеющей кукурузы.
Акварельные тени акаций густо и резко лежали на выщербленных тротуарах и на неровной, давно не ремонтированной мостовой, покрытой осенним сором жухлыми арбузными корками, виноградными косточками, сухими кочанчиками кукурузы.
Впереди он видел купол городского театра и сияющее над ним в кобальтовом небе громадное облако, похожее на глыбу мела. Там, дальше, был порт и залив, и на той стороне залива – розовая Дофиновка, и золотистые жнивья, и сиреневые плиты дальнего берега. А еще дальше был Крым, и белые развалины Севастополя, и тучи зеленых мух над грудами мусора, заросшего душным бурьяном. А еще дальше – истерзанная войной Керчь, и развалины Новороссийска, и черные щупальца фашистских армий, медленно ползущие по скалистым долинам Кавказа на Баку и выше, через истерзанные кубанские степи, через донские земли – к Волге.
Тягостное, невыносимое одиночество охватило душу Петра Васильевича. Он вдруг почувствовал такое отчаяние, такой ужас, что у него потемнело в глазах. Некоторое время он шагал машинально. В ушах шумело, и сквозь этот звонкий шум резко слышались какие-то железные удары; это на бывшей Большой Арнаутской из мостовой выдирали трамвайные рельсы и бросали их на грузовик. Враги грабили город.
Усилием воли Петр Васильевич сбросил с себя оцепенение. Он сильно притопнул ногой и некоторое время шел твердым, строевым шагом, крепко сжав рот и сощурив глаза. Если бы кто-нибудь в этот миг увидел выражение его лица, то, вероятно, бросился бы в сторону от Петра Васильевича – так страшно было его измученное, сведенное минутной судорогой, умное, несчастное лицо.
Но улица была пустынна. Очевидно, недавно схлынула очередная волна немецких войск, отправленных из города на фронт.
Фашистские плакаты, приказы, объявления, которыми были заклеены углы домов, афишные тумбы, обвалившиеся стены пожелтели на солнце и как-то особенно сильно подчеркивали запустение, царившее всюду. Город, несмотря на то что он считался прочно, навсегда завоеванным, отторгнутым от Советского Союза, имел вид беспризорный. Это был глубоко тыловой, забытый город, стоявший в стороне от прямых коммуникаций армий, которые прошли через него на восток со всеми своими обозами, транспортами, парками и полевыми комендатурами. Теперь в нем воровато и неуверенно хозяйничали тыловые разведки и гражданские учреждения короля Михая, которые, самим себе не веря, играли в завоевателей и колонизаторов захваченной советской земли, весьма претенциозно названной Транснистрией.