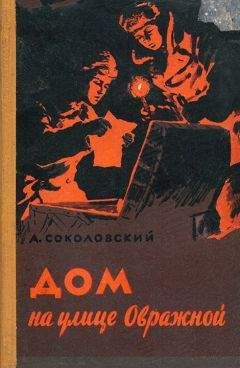Лев Экономов - Перехватчики
Через пять минут я уже стоял посреди своей комнаты, так вкусно пахнувшей краской и деревом, и смотрел через широкую балконную дверь на заснеженную улицу.
— Чудо, чудо, — твердил я, не веря счастью, и все ощупывал руками голые стены, оклеенные красивыми обоями. — Знала бы Люся! Как бы обрадовалась!
Но Люся находилась еще в родильном доме. Уже около месяца я не видел ее. И девочку нашу не видел, которую мы назвали Иринкой. Но, пожалуй, не было дня, чтобы я не получал от Люси письма. Писать о нашей Иринке для нее стало потребностью. Просто удивительно, как она могла так много видеть в этом крошечном беспомощном существе. Никогда бы не подумал раньше, что у крошки уже может быть свой характер, свои вкусы и даже свои привычки, что у нее мои, маленькие широко расставленные глаза без ресниц и оттопыренные уши. А на носу у дочки какие-то белые пупырышки. Ну и красавица же у нас вырастет! Впрочем, говорят, все еще может десять раз перемениться. Неужели она так и останется с пупырышками?
Господи, о чем я только не думал!
В каждом письме Люся писала, что ей все ужасно надоело и очень хочется домой, что единственным утешением и отрадой в ее однообразной жизни является дочь. Но ее приносят только на время кормления.
Ну ничего, теперь уже скоро я заберу вас. Теперь нам есть где жить.
Я оглядел нашу комнату.
Во — ширина!
Высота — во!
Проветрена,
освещена
и согрета.
Представил ее уже обставленной.
«Здесь мы поставим тахту, — думал я, — а тут шкаф, ближе к окну — Ирочкину кровать, ребенку нужно много света. Только вот не стало бы дуть. Ну мы эти щели заткнем».
Потом мне показалось, что я не имею права думать об этом без Люси. Мы все решим вдвоем, ей это будет так приятно. А пока надо набросать планчик нашей комнаты и послать Люсе, пусть порадуется. Нет, надо, чтобы она знала расположение всей квартиры.
Я достал блокнот и прошел на кухню, посмотрел места общего пользования. Все кругом блестело, как в столичной квартире.
В комнате напротив послышались голоса и смех. Мне захотелось узнать, кто будет нашими соседями, и я постучал в дверь.
Там зашуршали газетой, потом ответили сразу два голоса — и передо мной предстали Лобанов и Шатунов. Они сидели на подоконнике и что-то поспешно дожевывали.
— И вы здесь! — вырвалось у меня. — Вот здорово!
— А что, мы ничего, — Лобанов соскочил с подоконника и сделал нарочито испуганное лицо — это у него здорово получалось. — Присаживайтесь…
— На чем стоите, — улыбнулся Шатунов своей мягкой обвораживающей улыбкой.
— А что, это идея! — Николай сел на чисто вымытый крашеный пол, по-турецки сложив ноги.
Мы с Шатуновым тоже сели. Настроение у всех было приподнятое. Не прошло и года, а мы уже получили прекрасные комнаты. Не всем у нас в полку так повезло, но дело явно шло к этому, потому что рядом еще закладывали два дома.
Зашел разговор о предстоящем женском дне.
— Твоя мамочка не выйдет еще к этому времени? — спросил Лобанов и покрутил на мизинце серебряное кольцо с гравировкой.
— Кажется, нет.
— Давай в нашу компанию приходи.
— А что за компания?
— Брось ерунду городить, — остановил Николая Шатунов. — Чего он там не видел. Да и мне не хочется идти в твое «злачное местечко».
— Почему?
— Так, не хочу, да и всё. Лучше пойду к нам на концерт.
— Терпеть не могу самодеятельность.
— А я стильных девочек.
— Ну какой там стиль!
— Самый низкопробный. А ты его еще и в армию тащишь.
— Ну, знаешь…
— Знаю. Зачем выбросил пружину из фуражки? Чтобы блинчиком сидела. Зачем наватил плечи и нацепил самые большие погоны, какие только нашлись в военторге?
Друзья чуть было не поссорились, но мне удалось свернуть разговор с опасной дорожки, рассказав им о намерении Нонны Павловны. Дело в том, что после смерти Кобадзе она возглавила самодеятельность. И вот теперь ее участники готовили какую-то необыкновенную программу, составленную еще самим капитаном. Мой рассказ заинтересовал друзей.
Когда Лобанов вышел из комнаты (он был обидчив, как барышня), Михаил сказал:
— Понимаешь, попали мы в прошлое воскресенье в город и познакомились с девочками. Они привели нас домой. Пришли еще какие-то подружки и ребята, притащили пластинки, сделанные из рентгеновских пленок. Устроили танцы под радиолу. Я с одной танцевал — так думал, она на меня залезет. А потом появилось вино. А потом снова танцы до упаду. Колька был в восторге, а мне эта свистопляска не понравилась, не пойду туда больше.
Откровенность Шатунова меня удивила, — видно, здорово у него накипело на душе, если он решился рассказать мне об этом. А впрочем, я давно уже заметил, что Михаил все больше доверялся мне. Мы все чаще с ним разговаривали на досуге.
— И Кольку бы надо отговорить, — сказал я, подумав, как трудно бывает военным найти себе подруг. Михаил словно прочитал мои мысли.
— Колька ссылается на то, что в заводских или там в каких других коллективах знакомства и симпатии возникают на основе общих интересов. Ребята и девчата знают друг о друге почти все. А мы живем в замкнутом треугольнике — аэродром, столовая, дом. С женщинами знакомимся и влюбляемся на танцульках. Да и такая возможность не всегда и не у всех имеется. У нас нет времени на проверку чувств, на то, чтобы съесть с человеком тот пуд соли, без которого невозможно глубоко узнать человека. У нас часто всё решает первое впечатление, или старая школьная дружба, или первый поцелуй…
— Да, это верно, — я вспомнил о женитьбе Пахорова на женщине, которой стали чужды интересы мужа, и к чему это привело. — Это очень верно.
— Ничего здесь верного нет. Возьми самого себя, — продолжал Шатунов. — У тебя чудесная жена, а между тем вы встретились с ней не на аэродроме.
Мне стало неудобно и вместе с тем было приятно слышать такой отзыв о жене от Шатунова, потому что Шатунов говорил только правду, но это немного и смущало.
— И у тебя будет чудесная жена. — Я встал, потому что немедленно решил идти к Люсе. — Когда вы думаете перебираться?
— Сегодня. Койки да книги перетащить недолго.
— Ну твои книжки потаскаешь!
— Ничего, управлюсь. Мне хозяин тачку дает. А ты когда?
— Еще не решил. Посоветоваться надо. Хочу начертить ей план квартиры, — я стал обмерять шагами комнату друзей. — Соседям она будет рада.
— Не знаю. Вряд ли.
— Почему же?
— Холостяки — беспокойное племя. Но, конечно, постараемся очень не докучать вам.
— Да уж ладно.
Составив план квартиры, я пошел в родильный дом, чтобы передать его Люсе.
Через полчаса няня принесла мне ответ.
Ее письмо на этот раз было очень сдержанным и лаконичным. Она, так мечтавшая о новой комнате, отнеслась к моему сообщению без особых восторгов. Сначала меня это обидело, но через несколько строк все выяснилось. В родильном доме случилось несчастье — при родах умерла мать. Младенец остался круглым сиротой.
«Мы все очень расстроены, — писала Люся, — он такой крошечный и беспомощный. Мы кормим его по очереди».
Опечаленная, Люся на этот раз ничего не написала даже о нашей девчушке. Ее настроение передалось и мне. В гарнизон я возвращался без особого желания, и комната не манила меня.
Около дома Одинцова я носом к носу столкнулся с майором Сливко и Стрункиной. Они только что вышли от инженера, который вот уже несколько недель занимался с майором по математике.
Меня это не удивляло. Я и сам частенько заглядывал к Одинцову. У него всегда можно было почитать какой-нибудь новый технический журнал или бюллетень, а то просто поболтать с Нонной Павловной.
— Грызем гранит наук, — улыбнулся я.
— Ничего не поделаешь, — развел Сливко руками. — Приходится подковывать себя. Иначе и из штурманов наведения попрут.
Домой Сливко обычно уводила Стрункина.
— Он ведь не думает, что причиняет беспокойство чужим людям, — говорила она о майоре как о своем ребенке. — И что ужинать пора ему, тоже не думает.
Эта высокая статная женщина, с чуть увядшими чертами миловидного лица любила его по-прежнему горячо и самозабвенно.
«Если бы Сливко был полегче, то Стрункина, наверно, носила бы его на руках», — подумал я с некоторой завистью. Если чего мне и не хватало иногда, так это женской нежности.
Сейчас она забросала меня всякими вопросами по поводу Люсиного здоровья и самочувствия.
Я рассказал о случае в родильном доме. Стрункина как-то сжалась вдруг, словно ее больно хлестнули, поблекла, красивые тонкие, волосок к волоску, дуги бровей изломались, а в ясных глазах отразилось глубокое страдание. Впрочем, она быстро овладела собой, и только крылья ее небольшого аккуратного носа нервно раздувались.