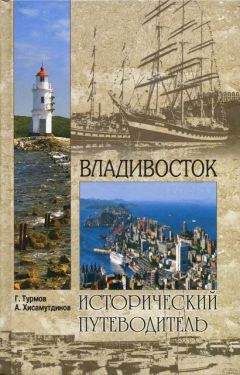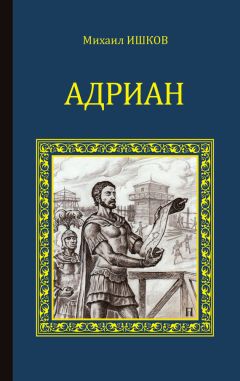Адриан Романовский - Верность
Началась процедура представлений. Гедройц сиял. Полговской был смущен, неловко шаркал ногой, жал руки и оглядывал гостей близорукими глазами. Его подавляли чины и громкие имена. Вспомнилось их мрачное прошлое, о котором он был наслышан ещё во Владивостоке. «Дело принимает серьезный оборот, — думал он. — Эти шутить не будут. И как это я так безнадежно запутался в сетях таких крупных авантюристов? Но выхода нет. Порвать с ними сейчас уже невозможно».
Через два часа, после совещания и сытного ужина, за которым Полговской пил мало, он покинул гостеприимный дом Зайцевой и отправился на корабль. В карманах его были рассованы два новеньких браунинга и несколько коробок патронов к ним, а в бумажнике еле уместились пятьсот долларов хрустящими банкнотами. Их ему вручила баронесса «на расходы, в которых вы можете никому не отдавать отчета». Но он понимал: для того чтобы удрать — этих денег мало. Для вербовки же новых заговорщиков на борту пока достаточно. Ловко она определила сумму «субсидии»!
Вслед за Полговским от Зайцевой вышел корнет Рипас. У него было прекрасное настроение. Наконец он на секретной службе в сыскной полиции. Был на секретном совещании, имеет интересный материал для своего патрона. В случае, если за бесконечными разговорами последуют действия, полиция будет готова их пресечь, а он получит денежную премию в дополнение к скромному, но гарантированному окладу. Но будут ли действия вообще?.. Вдруг его осенила мысль: нужно продать эту тайну. Продать немедленно и возможно дороже. Баронесса говорит, что Клюсс сейчас не при деньгах… Э, да вот кто даст деньги! Редактор «Шанхайской жизни»! Немного, но даст. Кстати, он уже знаком с господином Семешко. Надо немедленно туда заехать: там все сейчас в сборе, готовят завтрашний номер.
Рипас не ошибся. Информацию охотно приняли и за неё заплатили. Обещали держать в секрете её источник. Дали всего пятьдесят долларов, но и это деньги! Обещали и впредь платить, если материал будет свежий и сенсационный.
75
Судьба китайского пехотинца беспокоила и Клюсса и Павловского. Посоветовавшись, они решили, что надо постараться оградить его от жестокого наказания. Но дело едва не испортила «Шанхай Дейли ньюс». Она поместила заметку о том, что русский кочегар поздравил китайского часового с рождественским праздником, поломал его оружие и прогнал с поста. Заметка кончалась с чисто английским юмором: «Командир русской канонерки лейтенант-командер Клюсс и начальник обороны Шанхая генерал Хо Фенг-лин совместно знакомятся с этим происшествием». Смех с серьезным лицом…
Генерал Хо не понял насмешки английской газеты и принял Клюсса очень любезно. Ему импонировало, что извинения принесены лично командиром иностранного корабля. Ни английский, ни американский, никакой другой командир к нему бы не явился. В крайнем случае прислал бы младшего офицера с письмом. Он с удовлетворением принял извинения и обещал не наказывать строго незадачливого часового. При прощании одарил Клюсса двумя коробками китайских конфет.
Часовой получил двадцать палок и год заключения в крепости. Ходулину Клюсс назначил три месяца карцера, возместил стоимость штыка — три доллара двадцать центов. На этом инцидент был исчерпан.
Вернувшись на корабль, Клюсс рассказал Павловскому о своем визите к генералу Хо.
— Нужно разъяснить команде, как жестоко пострадал китайский пехотинец. Пострадал исключительно по вине нашего товарища, самовольно съехавшего на берег в нетрезвом виде. Пусть все почувствуют моральную ответственность за это.
Павловский ушел в подавленном настроении: «Вот так надежный товарищ! На словах интернациональная солидарность, а на деле…» Ходулин уже сидел в карцере, а комиссар всё не мог успокоиться. Неугомонная совесть всё твердила ему: ты виноват, ты! Ошибся, не предусмотрел, выпустил из-под наблюдения…
Через несколько дней у Ходулина поднялась температура и его пришлось положить в лазарет. Полговской определил инфлюэнцу и старался подольше продержать Ходулина в постели. Но через два дня комиссар с мрачным видом сам смерил Ходулину температуру и отправил его назад в карцер. Полговской возразить не посмел, но такого пренебрежения к его медицинскому авторитету не мог простить и заговорил с Ходулиным:
— Я давно заметил, что комиссар и командир — грубые, безжалостные люди. Что для них здоровье провинившегося кочегара? И где это видано — три месяца карцера? При старом режиме и то сажали лишь на пятнадцать суток.
Ходулин отмалчивался.
А в каюте командира в это время сидел старший офицер. Клюсс только что дал ему в счет жалованья 25 долларов.
— Сейчас больше не могу, Николай Петрович. Денег нам пока не перевели, мы в долгу, как в шелку.
— А если нам вообще… самое… не переведут денег?
— Переведут обязательно, имейте терпение.
— Я ещё хотел вас спросить, Александр Иванович: с Ходулиным что вы намерены делать?
Клюсс удивленно поднял брови, а Нифонтов продолжал:
— Я, как старший офицер, Александр Иванович, не могу… самое… разделять с вами ответственность за превышение дисциплинарной власти. Или Ходулина нужно считать арестованным до суда, или через пятнадцать суток, то есть завтра, освободить.
Клюсс с любопытством посмотрел на важно надувшегося Нифонтова:
— Никакой ответственности вы со мной в этом вопросе не разделяете, Николай Петрович. Уж если кто разделяет, так это комиссар. Власть командира в отдельном заграничном плавании не ограничена. Командир должен только разумно и справедливо ею пользоваться. А в глупости и несправедливости вы меня, надеюсь, не обвиняете?
Нифонтов покраснел и смущенно молчал, а Клюсс заключил:
— Так вот, Николай Петрович, я вас больше не задерживаю. Не угнетайте себя мыслями об ответственности, поезжайте отдыхать и послезавтра к подъему флага возвращайтесь.
Поклонившись, Нифонтов вышел.
76
— Ах, Михаил Иванович! Я так рада! Так рада! — Нина Антоновна протянула Беловескому обе руки. — Снимайте пальто. У меня сегодня для вас два сюрприза: письмо и святой ученый отец по интересующей вас специальности. Я так рада! Так рада! — повторила она, сияя неподдельным счастьем.
Беловеский теперь проводил с ней свободное время: ходил по магазинам, на концерты, в театр. Совершенно неожиданно он нашел в ней интересного собеседника. Как же это раньше он не замечал у своей давней знакомой такой эрудиции?.. Он не подозревал, с какой лихорадочной энергией Воробьева готовилась к каждой встрече с ним, сколько страниц она перечитывала, слушала целые лекции у своих ученых знакомых, которые в поисках высоких истин не забывали и о хорошеньких женщинах. У неё всегда была наготове для Беловеского книга, иллюстрированный технический журнал, интересное приглашение. Она страстно хотела удержать его около себя.
— Михаил Иванович! Общий поклон леди и джентльменам. Идемте сначала ко мне. Пусть они с завистью смотрят нам вслед! — рассмеялась она, первая взбегая по крутой винтовой лестнице.
Беловеский еле поспевал за ней, стараясь не смотреть на ее стройные ноги, быстро мелькавшие перед ним.
«Оказывается, и эта лестница тоже из арсенала женских хитростей», — подумал он, входя в маленькую комнату. Окна и дверь на балкон были по-зимнему закрыты. За стеклами шелестел листопад, холодный ветер метался над Бэндом и помрачневшей рекой. Но здесь было тепло, в углу полированным экраном сверкал электрический камин, на круглом столике в белой с синим орнаментом китайской вазе — большой букет желтых роз. Здесь Нина Антоновна дала волю сдерживаемым чувствам, а Беловеского в её объятиях вдруг осенила догадка: «Какое для меня письмо? Неужели от Наташи?» Он не мог ждать ни минуты и, освободившись, спросил:
— Ну где же письмо, Нина? Или это шутка?
Она открыла ключиком ящик письменного столика.
— Вот ваше письмо! Мне его вручили незапечатанным. Я ваша нескромная подруга. Всё о вас хочу знать, и знать первая. Хотите ругайте, хотите нет, но я его прочла. Теперь вы читайте, а я убегу вниз: нужно и выводком моим заняться. — И её каблучки застучали по винтовой лестнице.
Ошеломленный Беловеский читал:
«Харбин. 10 октября.
Милый Миша!
Получилось совсем не так, как ты предполагал, да и не так, как я думала. Обо мне ты, наверное, уже забыл. Ни одного письма до востребования, как мы условились, я не получила. Может быть, это и к лучшему. А то сейчас мне было бы тяжелее. Теперь я совсем другая: крашу губы, завиваюсь, ношу дорогие платья, изящную обувь. А ты меня, вероятно, по-прежнему представляешь в валенках или в сапогах. О шляпах я тогда даже не мечтала, таким обычным и удобным был пуховый платок. Теперь всё это в прошлом.