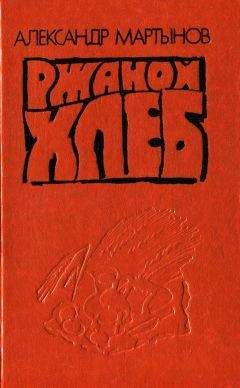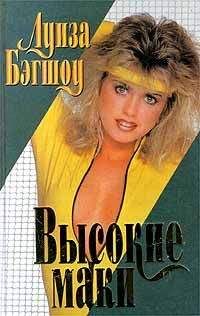Эрик Ханберг - Ржаной хлеб с медом
— Зачем? Бросим жребий, кому выпадет, у того и пересчитаем.
Добычу дядя Стрипинь записывал в тетрадь. Как принесет кто баночку, проставит против фамилии галочку.
— Сколько уже у меня галочек?
— А у меня сколько?
— А у меня?
Галочками этими Стрипинь горы сворачивал. Недаром его тетрадки потом в музей попали. Придумал он их в те времена, когда юные помощники в борозде еле шевелились, каждую пятую картофелину каблуками в землю втаптывали. Стрипинь почесал затылок, поразмыслил, завел тетрадочку и стал чертить галочки, сколько кем сделано.
— Молодец! Видишь, у тебя на две галочки больше.
— А ты, неужто не можешь еще одну набрать? Я бы на твоем месте не сдался.
Такой азарт разжигал, что, бывало, силком не затащишь детей на обед. Несут баночки с жуками, визжат, радуются.
С тех пор Рудольфа Пуке прозвали дядя Стрипинь — Галочка.
Дядя Стрипинь говорит и делает все обстоятельно и весело.
Как только ботва вытянется на тридцать сантиметров с хвостиком, Рудольф Пуке берет тетрадь и пишет на ней: «Первый картофельный поход».
— Теперь, когда из листиков выросли листья, — говорит он, — вы сами видите, какие сморщились, а какие свернулись.
И рассыпается ребячья рать по полю сражаться с вирусом и прочей нечистью. А дядя Стрипинь знай чертит галочки.
А когда картошка вся расцветет, он берет тетрадь и пишет: «Второй картофельный поход».
— Теперь, когда все поле в цвету, вы сами видите, где чужой сорт примешался, где черная гниль завелась.
Отцвела картошка, и снова у дяди Стрипиня в руках тетрадка «Третий картофельный поход».
— Ну а теперь вы сами видите, где среди ранней картошки поздняя выросла. Какая цветет, та поздняя, ту и будем выдирать.
Так и ходит все лето дядя Стрипинь с ребятами в военные походы на жука колорадского, на черную гниль, раздает медали-галочки, пока не очистит все поле от картошкиных врагов.
На праздник Победы дядю Стрипиня пригласили в школу. Дети глазам своим не поверили, когда увидели своего полководца. Сидит смущенный, будто воды в рот набрал, слова не вытянешь. Стесняется, что пригласили. Оживился, лишь когда один первоклассник спросил:
— Дядя Стрипинь, как вы такой тяжелый камень в телегу погрузили?
— А я бревнышками, бревнышками, — ответил дядя Стрипинь обрадованно (наконец-то о деле заговорили), — просунул их под него вместо колесиков.
Тут он забыл, что стоит перед публикой, что народу полон зал, что он не герой Великой Отечественной, и начал рассказывать пацану о своем приключении. Все поведал. Как ехал ночью, как искал в темноте яму поглубже, как закапывал.
Когда-то давно до войны у него был сосед подпольщик и коммунист Зигфрид Вигриезе. В районном краеведческом музее Вигриезе отведен целый стенд. В местной школе — мемориальная комната. В конторе «Единства» хранится планшетка революционера. Зигфрид Вигриезе не дожил до того часа, когда толпы вышли на улицы, площади. Не услышал, что говорили на митинге в Картофельных Ямах. Он умер в тюрьме в июне сорокового. За неделю до того, как рижане ринулись к тюрьмам освобождать политзаключенных.
Подпольщик когда-то оставил своему соседу Рудольфу Пуке сверток.
— Придет время, раскроешь.
Время пришло, и Рудольф сделал как обещал. В свертке лежал набросок памятника и просьба вырубить в камне следующие слова:
«Коммунизм победит!
Я верю — так будет.
Я умираю за это.
1879—19…»
К наброску были приложены деньги. Рудольф тотчас отнес все в исполком. Те, кто симпатизировал советской власти, сложились и добавили еще.
Открытие памятника стало событием. Народу собралось — море, со всей округи, ближней и дальней.
Когда пришли немцы, памятник исчез. В первую же ночь. Сыщики бегали, шныряли, выспрашивали, а все пожимали плечами. У Зигфрида Вигриезе не было родственников в Картофельных Ямах. А на Рудольфа никто не подумал. Потому что в тот раз, когда вскрыл сверточек, он не хвастался. Без лишних слов отнес в исполком и сдал.
Окончилась война, и Рудольф Пуке пришел к Павлу Пазару.
— Бери лопату.
— Зачем?
— Бери, говорят. Памятник будем откапывать.
Четверо мужиков еле справились с тяжестью.
А Рудольф, теперь уже дядя Стрипинь, объясняет первокласснику:
— А я бревнышками, понимаешь, бревнышками. Просунул под него вместо колесиков.
Дядя Стрипинь никогда не держал в руках винтовку. Не помогал партизанам, не спас никого от смерти. Только спрятал надгробный камень.
Оттого и стеснялся в школе и говорил, словно оправдывался:
— Жалко было, что разорят, поэтому увез, закопал.
Такой вот мужик дядя Стрипинь.
У Военной Нины лопнуло терпение
В старом деревенском доме, принадлежавшем некогда местному богачу Роланду Церу, живут две сестры Нина и Валя.
В конце войны Цер удрал в Америку. В наши дни в Картофельных Ямах его помнят лишь старожилы.
Как-то во время оккупации Цер привез из лагеря четырех военнопленных. Солдаты, что еле волочили ноги, на его харчах мало-помалу оправились. Поэтому Роланд Цер то и дело напоминал им:
— Не забудьте, я вас спас от голодной смерти.
Ходил он всегда с поводом, перекинутым через левое плечо, — двухметровой полоской кожи с карабином в конце, чтобы удобно было пристегнуть к уздечке. Нет-нет да и хлестанет для острастки. Пугал не только скот, огреет, бывало, и кое-кого из своих батраков. А в пленных так и карабином попадал. Размахнется и напомнит:
— Я вас спас от голодной смерти.
Немного спустя он привез еще двух работников. В этот раз в лагере раздавали детей. Цер приглядел двух русских сестер. В доме нужны были работницы — подать, постирать, подмести.
К девочкам Цер был более милостив, нежели к пленным, проучил лишь ременным концом. Но напоминание оставалось прежним:
— Я вас спас от голодной смерти.
Как только Цер почуял, что основы начинают пошатываться, он вместе с семьей, захватив наиболее ценные вещи, отправился за океан. Девочки даже всплакнули: Роланд на прощание погладил их по головке:
— Теперь вы тут хозяйки. Берегите вещи и ждите меня.
На второй день после его отъезда Валфрид Бека отвез сестер к себе.
— Бедняжки вы мои! Ни отца, ни матери, избитые, в синяках!
Роланд Цер обычно стегал по спине. Знал, куда метить. На голых ногах полосы были бы слишком заметны.
У Нины с Валей еще саднило кожу от порки, но обе вытирали слезы, будто расставались с дорогим человеком, а не мироедом-истязателем.
Деревню, где они жили, сожгли немцы. За связь с партизанами. Взрослых и детей загнали в колхозный сарай с сеном и поднесли огонь. В пламени сгорели братик и сестренка. Двухлетний и четырехлетняя. Трудоспособных подростков собрали и увезли. Сперва держали в лагере, где они в скором времени отощали до неузнаваемости, а потом распределили по разным областям оккупированной территории. Одна группа попала в Латвию. Роланд Цер выбрал Нину с Валей. Батраков и пленных кормил он отменно. Девочки быстро оправились. Они были благодарны ему за еду, теплую комнату с двумя кроватями, за одежду, за то, что у них был дом. На глазах у сестер уничтожили их родных, они прошли через лагерь и после всех ужасов и испытаний Церы дали им кров. Что там синяки! Если прилежно работать, не попадаться под удар, вовремя покаяться, соврать когда надо, можно и потерпеть.
Роланд Цер гладил детские головки неспроста, хотел оставить в своем доме верных людей, которые с рабской преданностью будут оберегать его имущество. Нина с Валей, почувствовав ласковое прикосновение, вспомнили отца с матерью, их натруженные руки, кошмарную ночь и заплакали.
За лесом взрывались бомбы, стоял гул канонады. Война приближалась, неотвратимая и страшная. Девочки дали волю слезам, готовые вцепиться в пиджак своего хозяина, терпеть побои, лишь бы он их не бросил, а взял с собой.
В эту минуту душевного смятения бездетная семья Беки предложила Нине с Валей свою родительскую опеку. Валфрид потрепал те самые головки, что накануне поглаживал Цер, и сказал сочувственно:
— Бедняжки вы мои!
Курземский котел, хоть и дал трещины, продолжал клокотать.
Проявлять чрезмерную жалость и публично сочувствовать девочкам из русской деревни, оказавшей сопротивление немецким властям, было далеко не безопасно, поэтому Валфрид на людях без конца повторял:
— Мы с Барбой вдвоем не справляемся. Пусть поработают. Заодно и сыты будут.
С соседями, заслуживающими доверия, он бывал откровеннее:
— Жалко девчонок. Люди все же, какая разница, латыши или русские.
В одиночество Барбары и Валфрида вошли детские шалости, смех, слезы, заботы и радость. Вначале Беки не думали о долгой совместной жизни. Доброта, с какой они взяли чужих детей, была схожа с любезностью одинокого ездока: остановит лошадку, подсадит в телегу, подвезет немного, чтобы путнику не пришлось мерить километры по грязной размокшей дороге. Постепенно привитые веточки срослись с деревом-кормильцем. Девочки были трудолюбивые, смышленые. Сердца приемных родителей раскрылись. Сдерживаемая потребность создавать, растить нашла наконец применение. Сиротам, натерпевшимся столько горя, в свою очередь хотелось к кому-то прижаться. Поэтому они не были такими занозистыми, как обычно девочки-подростки. Этот порыв и растопил сердца приемных родителей, которые поначалу в новых детях видели прежде всего обладателей двух пар рук, способных помочь по хозяйству.