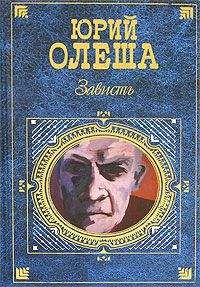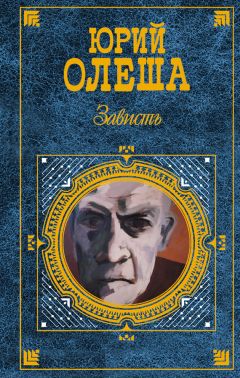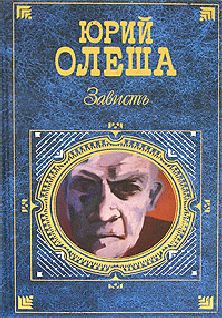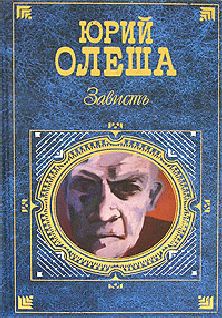Юрий Олеша - Ни дня без строчки
Словом, тревога заканчивается успокоением – убивать гориллу можно. Следует описание охоты на гориллу. Они появляются на вершине горы – огромные, каменноподобные силуэты – охотники в страхе… Однако у горилл нет этой черной палки, из которой появляется огонь. Горилла убит, его свежуют – будут делать чучело, и он будет вскоре стоять в стеклянном кубе, рыжий, в длинных волосах, чем-то напоминающий кокосовый орех, с отвисшей навязанной ему чучельником челюстью и показывая алые десны.
Я стал гладить кота, лежавшего на сундуке в чужой квартире. Как видно, его никто не гладил с достаточным чувством – он поддался ласке, ему понравилось. Чистый, изящный, сильный – он встал и выгнул спину. Затем он несколько раз с дружественным вниманием взглядывал на меня, не только со вниманием – с одобрением тому, что вот я пришел из темноты, неизвестный человек, и стал гладить его. В темноте передней на уважительной высоте висела при этом треугольная его морда с глазами, светившимися таким зеленоватым светом, каким светятся в летнюю ночь планеты.
Погладив, я ушел. Он пошел за мной – сперва по сундуку, потом мягко скинул себя с сундука и побежал по коридору. Мне было приятно думать, что на несколько минут я привязал к себе нечто вроде тигра.
Умер хозяин лисицы журналист Миклашевский. Почему хозяин лисицы? Он воспитывал лисицу – дикую, случайно оказавшуюся у него. В последние годы на Гоголевском бульваре появлялся человек, на руках у которого находилась лисица. Она сидела спиной к движению и смотрела, таким образом, через плечо несущего. Дети бежали за ними. Человек садился на скамью, лисица продолжала смотреть через его плечо; дети толпились поэтому по ту сторону скамьи. Она чувствовала себя не совсем в своей тарелке. Глаза у нее были как у девочки, чуть, впрочем, светлее, чем бывает у девочек, и чуть, я бы сказал, немотивированней.
Миклашевского я знал лично. Он рассказывал мне, как в день, когда у них в доме зажгли елку, лисица сидела вместе с детьми и как зачарованная смотрела на елку. Можно представить себе эти глазки с отражающимися в них огоньками свечек!
В последний раз я видел Миклашевского в «Литгазете» с год тому назад. Знал я его мало. Человек, любящий животных, – поэт.
Сегодня во второй половине дня началась весна.
Кошка вышла из маленького чердачного окна на листы крыши, освещенные луной. Она прошла, исчезнув через тень от трубы, потом опять пошла вниз по листам, по покатости, сама бросая впереди себя корчащуюся тень, дошла до желоба и пошла вдоль него, бросая тень уже позади себя, и скорее треугольную, чем корчащуюся. Здесь она шла, имея сбоку после некоторого пространства вершины деревьев с листвой, которая, хоть от тихого ветра, сыпалась вдруг сверху целой лавиной и потом уходила опять кверху, уже не желая сравниваться с целой лавиной.
Кошка, идя вдоль желоба, нагнулась над чем-то лежащим в нем, шевельнула это что-то лапой, держа комок головы опущенным, отчего он стал каким-то бедным; потом она шла довольно долго по листам, освещенным желтым, гладким лунным светом, и, войдя в тень от более высокого дома, упавшую на крышу маленького, исчезла в ней, даже не дав никому заметить, какого она цвета.
По скошенному лугу ходили большие вороны и что-то ели. Это правда: они кажутся зловещими – какие-то духовные лица времени Людовика XVI, ханжи, мучители. Впрочем, вглядываясь обыкновенным взглядом, видишь просто сильную, здоровую птицу и проникаешься к ней симпатией.
Они вдруг взлетели над лугом и летели, ища какого-нибудь другого, более богатого участка… Они летели низко, как видно, для того чтобы увидеть то, что им нужно было увидеть. Их поджатые лапки проносились над лугом, крылья работали правильно, как новая машина – тах, тах, тах…
Я шел за одной, уходившей от меня вперед. Сперва она не слышала или не боялась, потом взлетела, и взмахи ее крыльев как бы бросали мне: «Ах, оставь меня, оставь – не приставай!»
Я пошел в зоопарк, поставив себе целью увидеть только тигра. Ведь и эти картины, как и те, из масла, утомляют, когда видишь их сразу много! И тут, вдоль клеток, как и там вдоль рам, нельзя пробегать, лишь бы увидеть!
Итак, только тигра. Да, но тигр не сидит же в одной из первых клеток. Это гвоздь, это целое отделение, это финал третьего акта – тигр. Он вдали, и надо довольно долго идти к нему. Вот и пришлось мне все же увидеть кое-кого и кроме тигра. По мелкоте у входа я только скользнул глазами. Кто-то крохотный сидел возле будки. Силуэт ушек величиной в анютины глазки. Тяжело, точно на гигантской пробке, повернулся гриф…
Илья Сельвинский великолепно описал тигра.
Морда тигра у него и «золотая», и «закатная», и «жаркая», и «усатая как солнце». (Солнце, глядите, «усатое». Вот молодец!) Он говорит о тигре, что он за лето выгорел «в оранжевый», что он «расписан чернью», что он «по золоту сед», что он спускался «по горам» «драконом, покинувшим храм» и «хребтом повторяя горный хребет». Описывая, как идет тигр, Сельвинский говорит, что он шел «рябясь от ветра, ленивый, как знамя»; шел «военным шагом» – «все плечо выдвигая вперед».
Он восклицал о тигре:
– Милый! Умница!
«Ленивый, как знамя», – это блистательно, в силу Данте. Чувствуешь, как хотел поэт, увидев много красок, чувствовал, что есть еще… еще есть что-то. Глаза раскрывались шире и в действительно жарких красках тигра, в его бархатности поэт увидел «ленивое знамя».
Вот черт возьми! Здороваешься, разговариваешь с человеком, не оценивая, что этому человеку приходят мысли, может быть, третьи, четвертые, пятые по порядку от тех мыслей, которые были заронены теми…
Самый красивый из земных звуков, которые я слышал, это рыканье льва!
Что это? Как будто взрыв – во всяком случае, есть затухающий раскат… Хочется назвать этот звук пороховым.
Что за гортань, рождающая такой мощи и вместе с тем сдержанности, такой, я бы сказал, ненарочитости звук? Он не посылается львом далеко, а как бы только появляется вокруг пасти. Он как будто отбрасывает его, как короткое, изорванное пламя.
Я вхожу в цирк, опоздав, и передо мной, на желтой арене, девочка в юбке, подбрасывающая нечто вроде кеглей, жонглерша, и, пока я смотрю на ее откинутое лицо с подпрыгивающими за кеглями глазами, вдруг раздается из-за кулис рыкание льва. Доносится не только само оно, но и эхо его, дуновение, заставляющее сердце радоваться и чувствовать нежность к этому мягколапому, цвета песка, с гневными складками на лбу чудовищу.
Чего только не приходит в голову, когда стоишь перед клеткой обезьяны!
Когда европеец увидел ее впервые? Пожалуй, нет ни упоминаний о ней, ни тем более ее изображений в том, что дошло до нас от азиатских царств, от Греции и Рима.
Обезьяна, слухи о которой вдруг, после конца Рима и всей той эпохи, которую мы называем древним миром, стала для Европы загадочным, почти бесовским существом. Какой-то вал лег между золотым древним миром и Европой. Трудно представить себе идущий в Риме или Афинах снег. Скажем, что он и шел там чрезвычайно редко. Да, но идет же он все время во Франции, в эпоху, скажем, Меровингов – на севере Франции, на юге, идет в Германии и в Италии, поскольку Генрих стоит босой именно на снегу. Вдруг стал идти снег!
В этот раз я стоял в зоосаду перед клеткой шимпанзе. Я давно знаю это черное тело, этот черный овал, который я часто вижу издали, сквозь щели в толпе. На этот раз я решил смотреть на него вблизи.
Первая мысль о том, что это зверь необычайной силы и как страшно было бы попасть к нему в лапы, когда к тому же приподнимется в ярости его верхняя губа, показывая зубы и розовые десны. Вторая мысль о том, как отдельно, как ни при чем лежит на досках его просторной клетки осенний лист, занесенный сюда ветром или сторожем. Третья мысль… Мыслей множество!
Когда я подходил к клетке, он шел на меня, похожий не то на банкира, который сейчас сядет за свое бюро, не то на бандита, который собирается напасть на банкира.
Большая, толстая серая бабочка, почти в меху, вдруг появилась у подножия лампы. Она тотчас же прибегла ко всем возможностям мимикрии, вероятно, почувствовав что-то грозное рядом – меня. Она, безусловно, сжалась, уменьшилась в размерах, стала неподвижной, как-то сковалась вся. Она решила, что она невидима, во всяком случае, незаметна. А я не только видел ее, я еще и подумал: «Фюзеляж бабочки!»
То есть я увидел еще и метафорическую ее ипостась – другими словами, дважды ее увидел…
Мне никто не объяснил, почему бабочки летят на свет – бабочки и весь этот зеленоватый балет, который пляшет возле лампы летом, все эти длинные танцовщицы. Я открываю окно во всю ширь, чтобы они хоть случайно вылетели, я тушу лампу… Я жду пять минут – уже как будто нет их в комнате… Куда там! Зажигаю лампу, и опять вокруг лампы хоровод сильфид, равномерно приподнимающийся и опускающийся, точно они соединены невидимым обручем, – иногда постукивающий по стеклу абажура… Почему это так? Что этот свет для них?