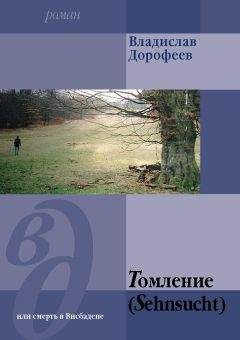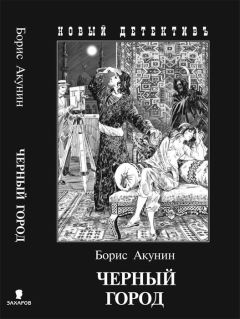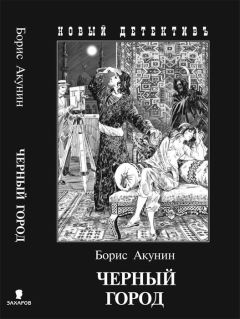Борис Полевой - Глубокий тыл
На дамбе, ограждавшей фабрику от реки, толпились люди. Там происходило что-то интересное. Что? Добежав туда, Галка зажмурилась — такое неожиданное зрелище предстало перед ней. Лед еще прочно сковывал реку. Но он уже пожух, стал грязновато-голубым. Пешая дорога, кратчайший путь от фабрик за реку, как бы вспухла и лежала на нем черным шрамом. У берегов темнели промоины, вода в них клубилась, как в закипавшем котле. По-весеннему вкусно пахло талым снегом, водорослями, просыпающейся землей.
Галку совсем не тянуло в цех, в грохот, к станкам, которые, по утверждению очеркиста, были для юной стахановки «дороги, как живые и близкие существа». Но, разумеется, она пошла на фабрику, заняла свое обычное место и отлично проработала до конца смены.
Не одна только Галка, а многие ее подруги — ткачихи, сновальщицы, мотальщицы, ее товарищи — шлихтовальщики, помощники мастеров, ремонтные слесаря — словом, все рабочие люди находились в эти дни в состоянии особой, радостной приподнятости. Причины у каждого были свои, и у большинства более серьезные, чем у Галки. Но среди этих причин была и общая — все, привыкшие за зиму работать в нечеловечески трудных условиях, в холодных залах, теперь вновь оказались в привычной атмосфере: днем опускались фрамуги окон, цехи нормально вентилировались, уток стал эластичнее, основы реже рвались. Это само собой подняло выработку. Произошел естественный рывок, который заставил всех поверить в свои силы. Эта вера была закреплена обязательством ткачей в предмайском соревновании: «Изготовим сверх плана ткани на белье десяти тысячам воинов».
С этим призывом поначалу вышло негладко. Любящий точность директор Слесарев и рассудительная председательница фабкома Настасья Зиновьевна Нефедова, не любившая новых, непроторенных дорог, были против такой необыкновенной формы лозунга.
— Ну чего ты все умничаешь, Анна? — возражал Слесарев, поводя своими широкими бровями. — К чему это? Перевыполним на десять процентов — это ясно, это легко проверяется, и люди к таким обязательствам привыкли. А что такое белье для десяти тысяч солдат? Слова, и только. Солдаты бывают большие и маленькие. Белье шьют пехоте одно, летчикам другое. Как же мы итоги подсчитаем? В Иванове, в Серпухове, в Шуе, в Вичуге — везде на проценты считают, а мы на исподнее… Чепуха!.. Я против, категорически против.
Нефедова, обычно во всем поддерживавшая Анну, на этот раз с нею не согласилась.
— Василий Андреевич прав. Сколько себя помню, всегда на проценты меряли.
Анна настаивала на своем. Спор перенесли в райком. В кабинете Северьянова Анна, что называется, пошла в лобовую атаку.
— До каких это пор люди должны проценты жевать? Тошнит от них, как от каши «блондинки» в столовых. Вы подумайте: что, если на фронте командир крикнет вместо «За Родину!», например «Вперед, за двести тысяч квадратных километров земной поверхности!» Поднял бы он людей? Пошли бы они за ним? Как же!.. «За нашу советскую Родину!»—совсем иное… А на фабрике разве не те же люди? Мы их, несытых, усталых, зовем еще поднажать и при этом бубним, как конторщики: столько-то целых и столько-то десятых… Тронет это сердца? Зажжет кого-нибудь?..
Северьянов ухмылялся. Он еще не был уверен, что Анна права, но любил такие вот горячие, страстные споры, из которых всегда рождалось что-нибудь интересное.
— Так, поддай, поддай парку, Анна Степановна, — говорил он, посмеиваясь и довольно потирая свои пухлые, осыпанные веснушками руки. — Предположим, доказано, что от каши «блондинки» в агитации надо отказаться. Ну, а какое меню предлагает секретарь парткома?
— Не перебивай, Сергей Никифорович, я еще не все сказала. Не только в этих процентах дело!.. Мы вообще, я считаю, плохие агитаторы: вот я, ты, все мы… Облепим все плакатами и радуемся: стен не видно. От бумаг фабричные коридоры шелушатся, как спина после кори, а мы довольны: ну как же, все, что можно, в них отражено! И в райком докладываем: товарищ Северьянов, столько-то лозунгов, столько-то плакатов вывешено… А читают ли их? Об этом нас не спрашивают. Вот ты, секретарь райкома, хоть раз этим поинтересовался?
Северьянов развел руками.
— Вот видишь, Сергей Никифорович, Калинина и наглядную агитацию отвергает, — хмуро произнес Слесарев.
— Нет, наоборот. Я только против того, чтобы мы стены вместо обоев плакатами оклеивали. А то идешь по коридору, мать честная: и заем, и сберкассы, и ПВХО, и утиль собирайте, и осторожно обращайтесь с огнем, и «Я ем джем», которого в лавках наших с начала войны никто не видел, и витамины, и несите металлолом, и будьте бдительны, и бей врага насмерть, и звони о пожаре по такому-то телефону… Да ведь это же как на толкучке: один кричит в левое ухо, другой в правое, третий за руку тянет, четвертый что-то в нос тебе тычет, и ничего не разберешь!.. Вот ты, Сергей Никифорович, посмеиваешься, а скажи-ка, только честно, сам-то ты хоть раз все эти плакаты прочел? Ну? — Анна требовательно смотрела на секретаря райкома. — Только не криви душой.
— А ты? — спросил Северьянов.
— Все? Конечно, не читала!
— Ну, вот видите! — торжествующе воскликнул Слесарев. Но секретарь райкома перевел на него насмешливый взгляд белесых глаз:
— А ты, Василий Андреевич, будто так все подряд и читаешь?
— Сколько бумаги, краски, труда на это уходит, — настойчиво продолжала Анна, — и, главное, теперь, когда каждая школьная тетрадка — ценность…
— Ну ладно, с учетом соревнования ясно, — обобщил Северьянов, уже сдаваясь. — Попробуйте подсчитывать на солдатские невыразимые… Ну, а по части наглядной агитации какие у тебя, Анна Степановна, предложения?
И как что-то обдуманное, уже заранее для себя решенное, Анна высказала, что отныне берет на себя контроль за расклейкой плакатов, будет следить, чтобы их часто меняли, чтобы их было вообще немного. А лозунг должен быть и вовсе один. Пусть он висит на самом видном месте, например при входе на фабрику, чтобы рабочий по пути в цех знал, к чему его сегодня зовет партия.
При всей необычности этого предложения Северьянов почувствовал в нем здоровое зерно. Он сказал, что не возражает. Пусть на ткацкой все эти предложения осуществят, и, если получится хорошо, он будет рекомендовать опыт на другие фабрики.
— Эх, Анна, запутаемся мы все в твоих выдумках, — махнула рукой Нефедова.
— Не запутаемся, Настя, простое это дело, — уверенно ответила Анна. — Ты мужу на пару белья сколько, шесть с половиной метров берешь? Так? Слесаревские бухгалтеры арифмометр крутнут — и процент разом в солдатское белье превратится. Зато каждый будет знать, сколько он солдат одел. Разве худо?
— Демагогия, — не сдавался Слесарев. — Обычная демагогия. Кто о чем думает, а ты, Анна, только о том, чтобы по-своему сделать.
— А ты, Василий Андреевич, когда в баню будешь собираться, попроси жену, чтобы она тебе в чемоданчик вместо белья проценты уложила, — отпарировала Анна.
Все заулыбались. Слесарев взбычил свою квадратную голову, заиграл скулами.
— Разве вас, женщин, когда вы упретесь, переубедишь!.. Вот потому-то от вас и мужья бегают.
— Мужья? — На лице Анны появилось несвойственное ей болезненно-растерянное выражение. Но только на мгновение. И прежде чем кто-нибудь смог заметить эту перемену, она уже снова стала прежней. — Если ты меня, Василий Андреевич, имеешь в виду, то я своего сама выгнала. Не нужен мне такой. А вот твою жену, верно, пожалеть надо. Ты ее, наверное, не любишь, а выполняешь план на сколько-то там целых и десятых…
Анна настояла на своем. Со стен коридоров, с заборов и афишных тумб содрали многолетние наслоения плакатов. Новые наклеивали теперь лишь с ведома парткома, на определенных местах и через некоторое время обязательно заменяли другими.
Лозунг же вывешивали один. Броско написанный, он вытягивался над входными дверями. Его часто меняли. Можно было ручаться, что прочтен он каждым рабочим. И вот уже несколько дней лозунг этот призывал изготовить сверх плана тканей на пошивку десяти тысяч пар солдатского белья.
Даже сама Анна не предполагала, какая большая сила таилась в такой, казалось бы, несложной мере, как конкретизация показателей соревнования. Теперь, когда каждая ткачиха, принимая предпраздничное обязательство, знала, сколько она должна одеть советских воинов и сколько одевает каждый день, фабрика как-то сразу оживилась. Повысился интерес к результатам работы. В конце смен целые толпы стояли у досок с показателями, на которые недавно мало кто и взглядывал. Возродился индивидуальный учет. Появились листовки-«молнии». Началась ежедневная перекличка цехов.
Выработка фабрики круто полезла вверх. И вот когда ценою стольких усилий дело, казалось бы, наладилось и люди радовались, предвкушая победу в предмайском соревновании, на ткацкую фабрику «Большевичка» надвинулась новая и совсем уже неожиданная беда.