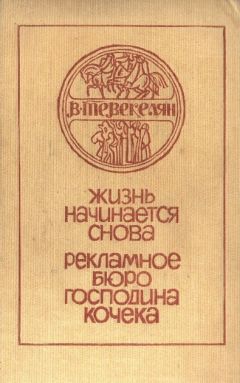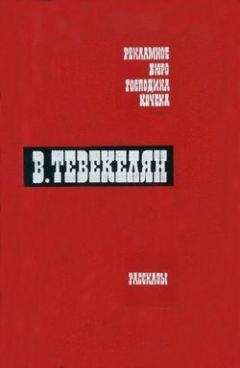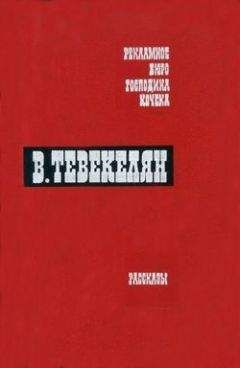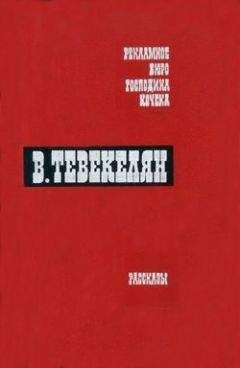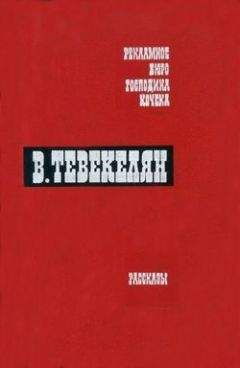Варткес Тевекелян - Гранит не плавится
Горком партии направил для работы в порту тридцать коммунистов и комсомольцев.
Зима вступила в свои права. Дни стояли серые, ненастные. По утрам над морем стлался густой туман. Дул холодный ветер. День и ночь не переставая лил дождь. И на душе было тоскливо, — как никогда, я ощущал своё одиночество. Хотелось тепла, уюта, душевного сочувствия, что хоть немного скрасило бы однообразные дни, заполненные тяжёлой работой… Иногда я уходил на пустынный берег моря, садился на скалы, следя за полётом чаек… «В чём счастье?» — думал я. То, что мы, как говорил мой отец, перевернули мир вверх дном, — разве это не величайшее счастье? Я прекрасно понимал это, но на душе всё равно было тоскливо…
Единственным моим утешением были книги и музыка. Читал я много, жадно, до одури, а в положенные дни ходил на уроки музыки. На скорую руку повторял гаммы, потом играл для себя всё, что вздумается. Добрейшая Нина Георгиевна, кутаясь в шаль, садилась в кресло и слушала…
Однажды, придя на урок, я застал Марию. Давно уж я не видел её. Увлёкшись игрой, она не заметила моего прихода. Я стоял за её спиной и смотрел, как длинные, тонкие пальцы девушки бегали по клавишам. Мария тонко чувствовала музыку. Она кончила играть, повернула голову и, увидев меня, смутилась.
— Играйте, не буду вам мешать! — сказал я и отошёл в сторону.
Мария молчала, опустив руки на колени. Тогда я спросил:
— Почему вы избегаете меня?
— Я не избегаю… Увидят меня с вами — пойдут ненужные разговоры…
— Не понимаю! Неужели в наше время человек может быть рабом устарелых взглядов?
— Может быть, вы и правы… Но что поделаешь, не все ведь понимают это… Мне, например, очень хотелось бы поехать в Москву, поступить в консерваторию, стать пианисткой…
— За чем же остановка?
— Во-первых, говорят, там очень голодно… Впрочем, главное не в этом. Мои родители ни за что не согласятся отпустить меня…
Пришла Нина Георгиевна, и разговор оборвался. Старая учительница сияла.
— Я прямо из театра! — Капельки дождя, как жемчужины, блестели в её седых волосах. — Сегодня у меня большая радость!
— Что ж случилось, Нина Георгиевна? — спросил я.
— Вызвали в театр и предложили работать концертмейстером. С завтрашнего дня приступаю…
— А как же мы? — спросила Мария.
— Самых способных не оставлю. Их наберётся человека четыре-пять, не больше. С остальными придётся распрощаться, — стара стала, сил на всё не хватит!
— Кто же они, эти счастливцы? — спросила Мария и даже слегка побледнела от волнения.
Старая учительница подумала, прежде чем ответить.
— Ну, скажем, ты, Иван, Сусанна Кантария и Тамара Гобиашвили, — сказала она и попросила: — Достань, пожалуйста, чашки, накрой на стол. Будем пить чай…
За чаем Нина Георгиевна предалась воспоминаниям. Она рассказала нам, как после её первого публичного концерта знакомые и даже родня отвернулась от неё, считая неприличным для девушки из хорошей семьи, да ещё грузинки, выступать на сцене. Кумушки сочиняли о ней всякие сплетни, а богатые купцы наперебой приглашали в ресторан.
— Тяжело было… Даже вспоминать не хочется! — вздохнула она. — Актрис считали чуть ли не за падших женщин, не пускали в «порядочные» дома.
После чая Нина Георгиевна под благовидным предлогом ушла на кухню и оставила нас одних.
Мы сидели на диване и, перескакивая с одного предмета на другой, говорили о музыке, о прочитанных за последнее время книгах.
Мария много читала, любила стихи, хорошо знала историю музыки. Со мною в этот вечер она держалась просто, непринуждённо. Но когда я пригласил её в театр, она сразу переменилась.
— Нет, нет, с вами я не могу пойти! — поспешно сказала она.
— Почему?
Она ничего не ответила, встала, прошлась по комнате. Потом села за рояль и тихонько начала подбирать незнакомую мне грустную мелодию.
В тот вечер я ушёл от Нины Георгиевны с тяжёлым сердцем…
Человек ищет счастье
Бушевал ураган. От сильных порывов ветра дрожали оконные рамы, крупные капли дождя стекали по запотевшим стёклам. В комнате было сыро, холодно и как-то особенно неуютно. Закутавшись в солдатское одеяло, я до поздней ночи читал Блока…
На улице — дождик и слякоть.
Не знаешь, о чём горевать,
И скучно, и хочется плакать,
И некуда силы девать…
Эти строки как нельзя лучше подходили к моему настроению.
Я отложил книгу и долго лежал, ни о чём не думая, прислушиваясь к завыванию ветра за окном, к шуму дождя. Потом, обжигая пальцы, открутил электрическую лампу, привязанную к спинке кровати. Лучше всего — спать!..
Проснулся от сильного стука в дверь. На пороге комнаты стоял Гугуша.
— Понимаешь, Ваня, срочное дело! Звонил ответственный дежурный Чека, приказал тебе немедленно явиться. Надо на границу ехать, — говорил он.
— На какую ещё границу? — недовольно спросил я.
— На турецкую! Другой у нас нет!
На улице, под дождём, прощаясь со мной, Гугуша как бы извинился:
— Проводить не могу, я дежурный! — и зашагал по направлению к порту.
Бедный Гугуша!.. После трёхнедельной отсидки его словно подменили. Он осунулся, стал вялый, неразговорчивый. Как-то зашёл ко мне и тихо сказал:
— Надо ехать в другое место… Людям стыдно в глаза смотреть. И Тамару не вижу… Помоги, Ваня!
Я с трудом уговорил его выкинуть из головы глупости и остаться здесь, хотя сам хорошо понимал его…
Улицы города превратились в полноводные реки, — приходилось скорее плыть, чем идти.
Ответственный дежурный ждал меня в комендатуре.
— Здорово, Силин, — сказал он. — Случилось «чепе»: из двенадцатого погранпоста сообщили, что поймали перебежчика. По-русски — ни слова. Лепечет: «Франсе, франсе», и никто ни черта не разберёт. Нужен переводчик, — сам понимаешь, хорошая птица в такую погоду не прилетит. Они выслали лошадей, поезжай, пожалуйста, разберись, в чём дело. А пока зайди посушись.
Не могу сказать, что мне очень хотелось тащиться в такую погоду куда-то к чёрту на кулички и допрашивать перебежчика. Но что поделаешь, дело есть дело. Я молча зашёл в дежурку и, сняв полные воды ботинки, стал сушить их у раскалённой печки.
Примерно через полчаса к воротам с грохотом подкатил старый тарантас, запряжённый двумя лошадьми. Я сел рядом с пограничником, и мы поехали. Дорога была ужасной, или, вернее, дороги вообще не было. Мы ныряли из одной ямы в другую. В тарантасе укачивало, словно в лодке. Невдалеке бушевало море, не переставая сверкала молния, дождь лил как из ведра.
— Видать, отчаянный парень, — кричал мой спутник, стараясь перекричать грохот близкого прибоя. — Нужно же в такой шторм пуститься вплавь!.. Совсем молодой ещё…
Усталые, измученные, промокшие, мы наконец доехали до погранпоста, расположенного в пустынной местности, недалеко от берега. Начальник поста, молодой, краснощёкий командир, коротко рассказал о происшествии:
— В ноль сорок минут красноармеец Малютин, стоявший в секрете у берега, начал давать световые сигналы: «Вижу в море лодку». Решили, что он что-то путает: в такую ночь на лодке — это же форменное самоубийство!.. Правда, погода для нарушителей в самый раз, но сухопутным путём, а тут — море! Побежали, смотрим, — действительно лодка. Из неё выпрыгнул молодой парень, втащил лодку на песок и зашагал не таясь прямо к свету. Тут мы его и задержали. Оружия при нём не оказалось. В лодке нашли полкаравая хлеба, кувшин с пресной водой. По-нашему — ни слова. Мы его накормили, сейчас сидит у меня, сушится. Поговорите с ним, — интересно, что заставило его пойти на такой риск?..
В маленькой комнатке с низким потолком, у печки, прямо на полу сидел молодой человек в трусах и рубашке. При нашем появлении он вскочил на ноги.
— Садитесь, — предложил я ему, показывая на табуретку. Услышав французскую речь, он радостно улыбнулся. При неярком свете лампы, висящей под потолком, я успел заметить, что у парня смуглое, волевое лицо, широкая грудь, хорошо развитая мускулатура.
— Спасибо, товарищ! — сказал он и, накинув на плечи потрёпанный, ещё не просохший пиджак, сел на табуретку.
Командир погранпоста ушёл, оставив нас одних.
— Мне поручено выяснить обстоятельства вашего незаконного перехода советской морской границы, — сказал я, устраиваясь за столиком командира. — Расскажите подробно: кто вы, чем занимались и с какой целью перешли к нам?
— Меня зовут Микаэл Каспарян, я рыбак!.. — Он превосходно говорил по-французски, без малейшего акцента.
Кто он, француз? Едва ли: явно выраженный восточный тип — жгучий брюнет со смуглой кожей. Глаза карие, большие, измученные. Нос с горбинкой. И как мог француз очутиться в глухой турецкой провинции Риза, откуда, без сомнения, он перебрался к нам? Турок? Не похож. Кто же он?..