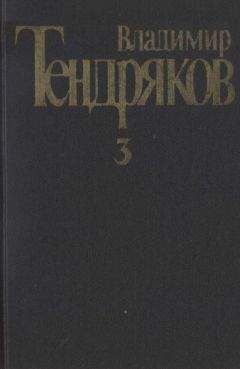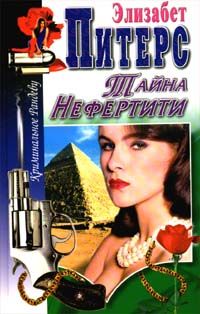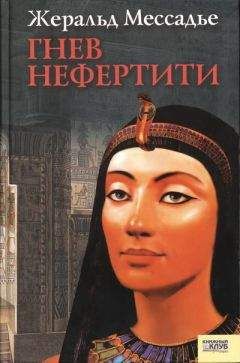Владимир Тендряков - Свидание с Нефертити
— А музыка? — Слободко потрясал дюжими кулаками. — Музыка, черти, тоже абстрактна! Абстракт-на!
Эрнест Борисович попытался пробиться:
— Дайте мне сказать… Минуточку…
Какая там минуточка — над спутанной шевелюрой Православного качаются кулаки Левы Слободко.
— Музыку не только как подкладку приштопывают по ходу действия к кинофильмам, к словам песен! Музыка, остолопы, существует и в чистом виде!
— Изобразительное, старичок, изобразительное. Изображать можно не звук, не стон, не содроганье, а что-то вещественное.
— Нас-тро-ение! Самое неуловимое — настроение изображается!
Остро блестят очки Православного, зудяще отзываются оконные стекла на негодующий рев Левы Слободко, рассекают воздух увесистые кулаки. Эрнест Борисович без надежды просит:
— Минуточку…
Иван Мыш все время возвышался, как шкаф, как буддийский бог, только глаза бегают с одного лица на другое. Сейчас он, не меняя серьезной мины, деловито поднялся, шагнул к Православному, взял под мышки, поднял в воздух. Православный извивался и кричал:
— Музыку, старик, не подтасовывай. У каждого искусства своя специфика!..
— Остынь, не рыпайся. Человек спросить хочет.
Но в это время из-за дверей раздался голос жены Эрнеста Борисовича:
— Молодые люди, стол накрыт! Можно и за столом продолжать ваши милые диспуты.
…Чуть осоловевшие от выпивки и плотной закуски, шли вперевалочку по темным и уже опустевшим улицам. Погромыхивали в тишине ботинки Православного.
Слободко дулся на Вячеслава, выставив грудь из расстегнутого пальто, выступал индюком.
— Рассудить по совести, мы изрядные сволочи, — философствовал Православный, — напились, наелись, ковры истоптали, книжки посмотрели и мимоходом обложили хозяина — некумека ты, паршивый любителишка. Старик, ты не чувствуешь угрызений совести?
— Ничуть.
Вячеслав — шляпа набекрень, пальто застегнуто до подбородка, поступь враскачку — и ростом не вышел, и в плечах узковат, а встретишь — дорогу уступишь. Федор позавидовал: никогда не сомневается в себе, ни в чем не раскаивается, прет вперед, не стой на пути — прошибет лбом.
У остановки троллейбуса, под окоченевшей липой, Лева Слободко повернулся грудью на Вячеслава:
— Шабаш! Не возьму тебя больше к Эрнесту.
— Аи, аи, заплачу.
— Порог не переступишь, сукин сын.
Слободко навис над Вячеславом — выше на полголовы, массивнее, но Федору почему-то жаль его.
— Эх, простота святая. — Вячеслав широко улыбнулся в лицо Слободко. — Все еще ходишь в гениях? А ведь, пожалуй, теперь мой черед с Эрнестом на брудершафт пить.
Слободко стоял, распахнув пальто, смотрел круглыми, остекленевшими глазами.
— Знаешь что?
— Пока нет.
— Давно меня подмывает в морду тебе съездить.
И резко повернулся, толчками пошел прочь, полы пальто летели над подмороженной мостовой.
— Самый веский аргумент, — произнес Вячеслав, глядя вслед убегающему Слободко. — Иван Мыш, перейми опыт, у тебя большие данные.
Православный, ковыряя притоптанный снег носком ботинка, сказал:
— Эх, старик! Не хватает тебе чего-то. Мягкости, что ли.
И Вячеслав не сразу ответил, оглянулся на Федора:
— Ты тоже так думаешь?
— Есть, Вече, в тебе что-то от рельса.
Подошел троллейбус, ярко освещенный, заиндевелый, внутри по-ночному пусто и как-то грустно. Укутанная по глаза кондукторша с неохотой очнулась, выдала билеты.
Отъехали остановки три, прежде чем Вячеслав заговорил:
— Разве вы не чувствуете — мы раскалываемся? Одни на одну сторону, другие на другую. В искусстве всегда стоят баррикады. Кто не с нами, тот наш враг.
— Голос рельса, старик, голос рельса, даже Федька признал.
— Считайте как хотите. Нельзя торчать между баррикадами. Кончилось у нас со Слободко корешкование.
4Уже четыре года Федор стоял у мольберта, много холстов покрыто красками. Исполнилось двадцать шесть лет, лоб пробороздили морщины.
Каждое лето заглядывал в родную Матёру.
Мать, казалось, время не брало, по-прежнему распевала:
Березыньки-то закуржавели,
Елочки-то замозжевели…
Отец седел и темнел лицом, у него появилось какое-то неподвижно-кремневое выражение, по целым дням молчал.
Он бригадирствовал. Утром обходил деревню от избы до избы, стучал под окнами:
— Настасья, собирайся… Кочкарев луг докашивать.
Бабы его боялись, председатель колхоза тоже побаивался.
Председателем был поставлен из района некий Великанов, тощий, невзрачный, на юношески хрупких плечиках громадная голова, рыжие глазки, рыжие брови, рыжие ресницы, рыжая щетина на одутловатых щеках, — светится, словно мартовское солнышко, безобиден, если и отчитывает, то тонким обиженным голоском. Вчуже становилось почему-то жаль его.
Как-то Федор подслушал — отец угрюмо говорил председателю:
— Ты для нас — зверь хищный.
И председатель вместо того чтобы обидеться, стал слезливо оправдываться:
— А разве ж я хочу зверовать?.. Рад бы навострить лыжи, да не пускают.
— Все одно беги, пока колхоз не съел.
— Рад бы в рай, да грехи не пускают. Сам не хуже моего знаешь.
Великанов прежде работал на лесопункте, получал оклад тысячу сто рублей. Перебросили в колхоз на укрепление, но чтоб не был в обиде, оклад оставили за ним, только выплачивать обязали из колхозной кассы. А в кассе хоть шаром покати — одни долговые расписки, год от году забирали кредиты. Каждый месяц выводили из скотного корову, забивали, везли продавать, чтоб выплатить председателю положенную зарплату. Тощий, застенчивый Великанов «съел» едва ли не треть стада. Одна надежда, что сам норовит навострить лыжи, долго не удержится…
Матёра слепла. Половина изб стояла с заколоченными окнами. Парни, уходившие в армию, не возвращались обратно. Мужики работали на сплаве. Девчата, подрастая, норовили поступить в ремесленное училище.
Деревня Матёра — избы, ставленные в прошлом веке, мхом позеленевшие крыши. По-прежнему летает над ней тополиный пух, в речке под родниково-прозрачной водой — золотое песчаное дно, и пышный ивняк бросает влажную тень, и горят кувшинки звездочками, и за полями, за ромашковыми лугами в мутноватом мареве голубеют леса… Куда ни глянь — все просится на холст, в руках зуд. «Это русское приволье, это Родина моя…»
Но едва схватишься за этюдник, чувствуешь взгляд отца, молчаливое, угрюмое, медвежье недоброжелательство: «Баб да старух на поле гонишь, мужичью работу ворочают, надрываются, а тут сынок — косая сажень в плечах, загривок бычий — красочками забавляется…» Добро бы отец один так смотрел, а то сядешь под кустом, откроешь этюдник, идут с покосов женщины, начинают похохатывать: «Приноровился в холодке…»
День за днем убывает лето — святое время, когда ты из ученика становишься свободным художником, — твори как хочешь и что хочешь. Каждый студент возвращается с каникул более зрелым, с багажом новых работ.
Лето убывало, а Федор ходил с косой на лесные, зарастающие кустарником покосы, метал на стога сено, гонял жатку в парной упряжке. Работал с ожесточением, порой его даже одергивали бабы:
— Не надрывайся шибко-то, миленький. Не жди, не озолотят.
Отец молча ставит «палки» против его фамилии — трудодни, которые оплатят или нет — бабка еще надвое гадала.
Только рано по утрам, совсем рано, или вечером после работы, чтоб ухватить сбывающий закат, торопливо стучал во врастающее в землю оконце избы старой Марфиды. Высовывался Савва Ильич, бросал радостно:
— С-счас.
Выскакивал мгновенно, одной рукой засовывал в карман горбушку хлеба, в другой держал фанерный ящичек с красками, собственноручно сколоченный на манер этюдника Федора.
Бабка Марфида разменяла восьмой десяток в закутке за печью, лишь изредка вылезала греться на солнышко под бревенчатую стену. Прокопченные мощи, всегда пахнущие кислыми щами и дымом, из неподвижного сплетения мудреных, как древняя арабская вязь, морщинок торчал острый нос и не менее острый подбородок. Савву Ильича она звала сыночком, Федора каждый раз с любопытством разглядывала удивительно ясными, не слинявшими глазами, спрашивала:
— А это чей такой молодец?
Спрашивала, если даже видела его вчера.
Савва Ильич год от, году ссыхался, глаза и рот ввалились, скулы выпирали в стороны, но по-прежнему проворен, все ощутимей казалось, что от его сухого беспокойного тела идет бесплотный шелест. В колхозе он не работал, на пенсию кормил себя и бабку Марфиду, испытывал всегда острый недостаток в бумаге, изводил ее пудами, в окружающих деревнях почти в каждой избе висел подаренный им пейзажик — неизменные елочки да березки на голубом небе. Иначе где бы хранить ему такую прорву работ?