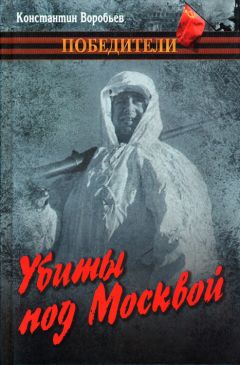Константин Воробьев - Убиты под Москвой (сборник)
Сразу я было решил идти сам, но потом подумал, что через такой мягкотелый поступок могу потерять авторитет в глазах подчиненного и тогда мне будет еще хуже.
– Партизан Сидорчук! – сказал я. – Идите сейчас же на хутор. Разведайте обстановку. И если ничего там подозрительного не заметите, возвращайтесь назад.
– А если замечу? – ехидно спрашивает Сидорчук.
– Все равно приходи сюда, – говорю.
В общем, отправил я его, а сам стал ждать донесение. Прошло, может, не меньше часа. Кругом ни звука. Луна только светится да звезды блестят, а Сидорчука все нет и нет. Я стал уже сильно беспокоиться и предполагать беду, но в это время он показался совсем с противоположной стороны.
Тут я должен сообщить вам насчет молочных бидонов. В Литве наши горшки не приняты под молоко. Для этого у них там в моде белые жестяные бидончики со стеклянным окошком в боку, чтоб отстой был виден. Вот с таким точно бидоном и возвратился из разведки хутора Сидорчук.
– На-ка, попей холодненького, – говорит, а от самого таким нестерпимым вкусом сливок несет, что даже за пять шагов слышно.
– Где ты его взял? – спрашиваю.
– А в колодезе, – докладывает. – На веревке был спущен туда: охлаждался.
– Та-ак, – говорю. – Значит, первое наше с тобой действие в тылу у противника началось с воровства молочного инвентаря у мирного населения?
Это я спрашиваю у Сидорчука, а сам, между прочим, пробую снять крышку с бидона. То есть не по желанию пробую, а совсем даже наоборот. Просто ничего не могу поделать с собой – так захотелось глотнуть оттуда хотя бы полстакана!
Выручила меня должность, иначе бы не стерпел. Выходит, что разум тоже приходит к человеку вместе с назначением на пост, но, конечно, не ко всякому…
Чтобы долго не задерживать вас на этом месте, скажу коротко: в эту ночь мы заглядывали еще на три хутора, кроме этого, и всюду нас принимали, как родных братьев, – к бедноте попадали. К утру мы так нагрузили животы, что идти уже совершенно невозможно стало, а есть все хочется.
Но хорошее без плохого не бывает. От невоздержанности с мясом и по причине выпитых ранее сливок Сидорчук захворал. Понятно, конечно, чем, а такая болезнь в нашем с ним положении хуже не придумаешь – сидеть надо было, вместо того чтобы двигаться.
На рассвете кое-как довел я его до лесной глуши и определил в кустах орешника, а сам отошел чуть подальше. И только снял с себя винтовку и хотел прилечь, гляжу – крадутся мимо двое, и такого нечеловеческого вида, что я враз догадался, кто эти люди, чьи они и откуда…
Понимаете, мы с Сидорчуком и сами страшили хуторян своим обличием – до того довели нас в лагере, но таких, как эти, я видел впервой за весь свой плен. У одного волосы до плеч, лоб с хороший кавун, а лицо – с огурец: высохло, и заместо рубахи – мешок с немецким орлом, представляете? Второй тоже далеко не радостной наружности. Гимнастерка без рукавов, лицо – сплошная корка засохшей крови, сам же весь до того мал и худ, ну прямо инкубаторский цыпленок! Но оба все-таки держат в руках по голышу. Жить, значит, еще хотят и даже обороняться собираются…
Поступил я с этими людьми не совсем правильно. Можно сказать, даже плохо. Понимаете, вместо того чтобы обрадоваться своим живым братьям славянам (а это, между прочим, с одной стороны души так у меня и было) и по-человечески расспросить их, что и как, я начал снимать с них форменный допрос, да еще с разными там намеками – почему, дескать, живы остались да как это было возможно для вас в плен сдаваться, когда у вас все цело и по уставу это не предусмотрено.
Чуете? Охамел – и все! А причина тут скрывалась в оружии. В винтовке, которую я держал между колен и рукой поглаживал: до таких размеров расперла она мою важность, что по-другому разговаривать я не мог!..
Ну ладно. Люди наши, как известно, на междоусобные обиды забывчивы и душой друг к другу отходчивы. Мне это тоже потом простилось и забылось – жить же надо было вместе! Но сперва-то я все-таки допросик с них снял. И выяснил: фамилия того, что был в мешке, – Климов, звать Сергеем, а по отчеству Андреевич, год рождения девятнадцатый, неженатый, лейтенант. В плен попал в сорок первом под Ельней, раненным в ногу. Второй, который без рукавов, тоже оказался командиром по фамилии Воронов Иван. Находились они в офицерском лагере под Ригой, бежали с эшелона сутки тому назад и, кроме травы, ничего еще не ели…
После их допроса я рассказал о нашем с Сидорчуком побеге, и хотя в действиях с конвоиром совершенно упустил из вида отсутствие своей правой руки, так что нагрузка получилась на две целых, результат у меня вышел все-таки крепкий: Климов обнял меня и даже заплакал. Я тогда тоже не удержался. В первый раз за все время нестерпимо стало за себя и за всех нас – таких, без вести пропавших…
Между прочим, Климов оказался мужиком норовистым. Я это сразу заметил, когда выдал им на двоих хлеб. От вида деревенской ковриги Воронов аж подпрыгнул, а Климов отломил ему кусочек с гулькин нос, вручил, как свой, да еще и приказал:
– Ешь не сразу. Хлеб ржаной. Ясно?
– Ясно, – отвечает Воронов, а у самого, бедняги, голос рвется.
В тот же день у меня с Климовым получилось разногласие насчет партизан. Он не признавал их никак. То есть не верил, что они хоть что-нибудь да значат в войне с немцами.
– Ну, – говорю, – в войне они, может, и действительно сильно не значат, но в истреблении отдельных фашистов роль все-таки играют.
– Возможно, – говорит, – но немцев надо громить по всем правилам стратегии на фронте, а не играть с ихними ездовыми на проселочных дорогах в тылу. Ясно, товарищ Курочкин?
Я промолчал, потому что чувствовал свою слабость в военных словах, но насчет партизан остался при своем личном мнении.
К вечеру Сидорчуку полегчало, и мы вчетвером двинулись прямым курсом на восток, к своим. На этом и закончилось мое старшинство, несмотря на винтовку. Старшим, как известно, всегда является тот, кто оказывается впереди, а головным у нас оказался Климов. За ним шел Воронов, потом уже я, а замыкающим Сидорчук, поскольку ему приходилось еще временами задерживаться.
Вот тогда-то я и узнал, до чего человек сложная механика! Я на себе это понял, потому что полночи шел и все думал: «А на каком основании Климов захватил верх? Кто к кому пристал – мы к ним или они к нам? У кого оружие – у них или у нас?» Понимаете? Это, значит, личные интересы у меня зашевелились, как раньше у Сидорчука. Чуете? Но именно этим сравнением я и успокоился. Выходит, что худа без добра тоже не случается…
Ну хорошо. Утром, на восходе солнца, нам встретилось шоссе, и только мы собрались пересечь его, как издали показался легковик. Был он от нас километра за полтора, а то и дальше, но мы все же… кинулись назад, да так, что остановились метров через двести, а то и через все триста от дороги…
Теперь трудно сказать, кто побежал первым. Думаю, что все в одно время, потому что ни передних, ни задних у нас не было.
Потом, часов через несколько, каждый из нас понял, отчего это с нами случилось. То есть почему мы оказались тогда такими… Дело тут важнее, чем можно сразу подумать о нас. Дело не в страхе смерти было и не в личной трусости, а в другом – в плене нашем проклятом, ужасную память о котором мы еще носили с собой… Эх, трудно мне объяснить вам это, ну да вы поймете все сами по ходу дальнейших событий.
Забрались мы после этого в лесную глухоту, друг на друга не смотрим, молчим, и сразу же по кустам – спать вроде, а какой там, к черту, сон был! Так, отвод от себя своих же глаз. И вот лег я вниз лицом, наблюдаю жужелицу в траве, а сам успокаиваю себя тем, что сваливаю вину за это дорожное бегство на других, а главным образом на Климова. Разное пришивал ему, а себя оправдывал однорукостью… Но потом все-таки понял общую причину своего слабосилия и решил так, что с обеими руками я, может, бежал бы еще шибче – размахивать было бы чем… И захотелось мне не только обругать себя последними словами, а прямо-таки избить, хотя за что именно – точно не знал. От обиды, конечно, а может, от стыда…
Климов лежал от меня метрах в пяти, и вот слышу – шепчет он такую страшную ругань, что теперь от нее уши завяли б! «Стоп, – думаю, – значит, люди мы еще не пропавшие, раз чувствуем коллективную боль от своей неспособности. Значит, рождаемся мы сызнова для хозяйской жизни на этом зачумленном немцами свете!..»
Вот тогда и повернулась у меня душа на что-то хорошее к себе, а Климов распространил эту мою радость на всех нас четверых. Понимаете, подполз он ко мне, вперся взглядом в винтовку, и хотя молчит, но я уже знал, что он хочет. Точно знал, потому что именно это и хотел он, как потом выяснилось.
– Бери, – сказал я. Только всего и сказал.
Схватил он винтовку, проверил патроны и тоже мне почти одно слово:
– Я один пойду.
– Нет, – говорю. – Надо всем вместе. Для глаз нам надо. А может случиться – и для помощи тебе.