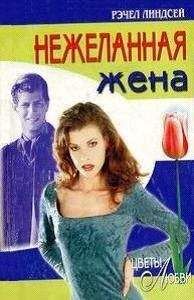Андрей Черкасов - Человек находит себя
— Все, все, конец теперь… теперь все, — повторяла она, ежась от какого-то внутреннего холода. Лежала она без сна, без мыслей, без слез. Холодно было так, что не помогало даже пальто, наброшенное поверх одеяла. Валя старалась убедить себя, что так все и должно быть, ведь она же давно знает это. Алеша сказал же ей прошлой осенью, чего же еще? Она начала беспощадно ругать себя за все, в чем была и не была виновата, за эту любовь, которая пришла не спросясь, а теперь не хотела уходить, давила и угнетала ее.
…Таня сидела все над той же страницей. Она прислушивалась к шуму дождя. На черных стеклах блестели водяные дорожки. Ветер налетал порывами. Он шумел ветвями деревьев и побрякивал на крыше отставшим железным листом.
После того, что произошло, на душе было как-то особенно одиноко и пусто. «Ничего своего нет, — думала Таня. — Георгий неизвестно где. Вернулся ли он? Он не напишет мне ничего, и я ничего не делаю, чтобы его вернуть. Вернуть! Нет, нет! Не может быть, чтобы я его потеряла! Если бы можно было поехать в Москву, увидеть… объяснить…»
Достав листок бумаги, Таня начала писать. Она не писала черновиков, не рвала в клочья только что написанное, не исправляла и не зачеркивала ничего.
«Георгия, я больше не могу так, — писала Таня. — Эта неизвестность угнетает меня. Неужели ты веришь в то, что я обманывала тебя? Я люблю и всегда любила только тебя, любила, когда ты еще ничего не знал. Эта любовь не пройдет. Я не хочу говорить о том, как ты меня обидел, хоть это и было очень горько. Моя любовь в тысячу раз сильнее любой из обид. Сколько их еще может быть в жизни, таких обид? Какая сила, кроме любви, будет бороться с ними? Я хочу, чтобы ты мог прочитать мои мысли, как читают книгу. Если бы ты прочитал их!.. Ты поверил бы мне на всю жизнь! Моя любовь с тобой, милый! Она озарит каждый твой шаг, отгонит все темное, поддержит в горе и дает силы для самой трудной борьбы. Она может все, Георгий, ждать и жертвовать в том числе. Родной мой! Я могла бы писать всю ночь, это успокаивает. Но правда тускнеет от обилия слов. Я кончаю. Обнимаю тебя и жду… жду. Твоя Татьянка».
Таня сидела над письмом, положив на стол руки и наклонив голову. Вдруг она услышала музыку: где-то играла скрипка. Таня вздрогнула и осмотрелась: уж не заснула ли? Откуда взялась скрипка? Наконец, она сообразила, что это Иван Филиппович пробует свой новый инструмент.
Сначала были слышны только аккорды, октавы, несложный пассаж, кусочек гаммы. Ровная, продолжительная нота без вибрации. Наконец, где-то на басовой струне началась едва слышная, осторожная мелодия. Она набирала силу. Звучание переходило в более высокие регистры.
Таня не могла понять, что это. Мелодия казалась странно знакомой и в то же время новой, особенной. В ней была и напевность народной песни, и что-то напоминавшее Чайковского… Глинку. Она переходила из минорного тона в мажорный, и мажорный дышал мягкой просветленной грустью, напоминавшей краски осени среди яркого солнечного дня. В минорном сквозь чистую сердечную грусть просачивались яркие, как первые весенние капли, звучания….
Незаметно для себя Таня начала подпевать, просто угадывая каждую следующую ноту. Она догадалась, что это собственная импровизация Ивана Филипповича. Значит, он не только мастер скрипок, но еще и музыкант…
Ночью Таня видела сон. Она поднимается по узкой полутемной лестнице. Наверху стоит Георгий и протягивает ей скрипку. Таня отводит ее рукой и обхватывает ладонями голову Георгия. Но в руках ее уже гипсовая голова бюста Чайковского. Она выскальзывает из Таниных рук на пол и разбивается на тысячу мелких белых осколков. Таня хватает два из них и бежит куда-то вниз. В подвале стоит рояль. Она поднимает крышку и бросает между струн два этих осколка. Слышен далекий всплеск, как в глубоком колодце. «Опоздала» — почему-то говорит Таня и садится за рояль. Пальцы свободно бегут по клавишам, но вместо музыки слышен однообразный гудящий звук. Приходит Алексей. Он говорит: «Не надо, — и, взяв ее за руки, поднимает со стула. — Разве же они будут звучать? — говорит он. — Ведь это же шкала ДЭ!»
Таня проснулась, когда было уже светло. Дождь кончился, очевидно, недавно, потому что с деревьев и крыши срывались еще крупные капли, и слышно было, как они падали. В окне виднелся краешек неба, ветер гнал клочковатые, похожие на морскую пену облака. «Почему в окне солнце? — подумала Таня. — Ведь это же северная сторона!» Она встала с постели и отодвинула занавеску. Березка рядом стояла вся золотая, а еще недавно на ней было всего несколько желтых листков. «Умирает, — подумала Таня, — умирает и светит…»
И вдруг так светло, так хорошо стало от этого сияющего угасания жизни, оттого, что увиделось оно на рассвете. Вспомнилось написанное ночью письмо, музыка Ивана Филипповича и то, свое, душевное, что в ней слышалось. Отблеск, похожий на золотой свет осени под окном, коснулся девушки, и как будто кто-то позвал посмотреть вокруг на все, что умирает, чтобы весной снова стать живым, на то, что живет, дышит, на тех, кто трудится рядом, и на все, что никогда не умрет. Разве это не ее свет? Не ее радость? Разве можно не верить, что та радость, которую она ждет, придет обязательно?
4Валю Таня не увидела ни на другой, ни на следующий за ним день. Закрутилась в делах цеха и в подготовке очередного номера «Шарошки», в редколлегию которой ее избрали со дня организации газеты. Номер посвящался теперь кое-каким «героям» из смены Шпульникова, у которого по-прежнему, несмотря на всяческое содействие Костылева, с контролем дело не ладилось.
К воскресенью установилась хорошая погода и как-то посветлело на душе, оттого что отправила письмо в Москву. Это был первый день, когда просто захотелось немного отдохнуть от всего. Утром Таня пришла к Вале. Когда она вошла в ее комнату, Валя поднялась и торопливым движением уличенного смахнула со стола на кровать кучу тетрадей с институтскими конспектами.
— Я за тобой, пошли на воздух! — сказала Таня.
— Ты так незаметно вошла, — растерянно забормотала Валя, краснея и стараясь незаметно накинуть на тетради газету: совестно было, что застали ее за таким нестоящим, как ей казалось, занятием.
— Очень просто: ты увлеклась и не заметила… Ну, собирайся! В такую погоду непростительно сидеть дома.
Вскоре девушки неторопливо подходили к реке. На Вале был короткий жакет и серая пуховая шапочка. Таня шла с непокрытой головой; косынку она несла в руке.
Осторожное осеннее солнце стояло невысоко. Оно золотило небо и заливало светом золотые кроны деревьев. От этого кругом все светилось и невозможно было понять, где больше золота: в небе или на земле.
— Почему ты косынку сняла? — спросила Валя. — Полную голову паутины наберешь.
— Пускай она меня хоть всю облепит, — засмеялась Таня. — Она такая ласковая! Не бойся паутинки, Валя! Хочешь, я натащу ее на тебя? — И Таня, протянув руку, старалась поймать плывшие по воздуху паутинки. Они, словно играя, увертывались от ее руки.
— Не поймаешь, — улыбнулась Валя. — Они хитрые, эти твои паутинки.
— Когда я была маленькая, — сказала Таня, опуская руку, — мне почему-то казалось, что осенние паутинки — это время. Мама часто жаловалась отцу, что время летит так, что ничего не успеваешь сделать. Я смотрела на паутинки и думала: это вот и есть само время. И правда, в самом деле похоже. Тебе не кажется, Валя?
— Молодость уходит, — ответила Валя, протягивая руку за паутинкой. Паутинка увернулась и уплыла кверху.
— Глупости! Я вот не могу представить себе, как это вдруг молодость уйдет, — сказала Таня. — Мне кажется, она постоянно будет со мной. А как бы хорошо! Я все думаю: пока есть заботы, есть, что делать, состариться просто невозможно. Не знаю, так ли это. А вот бы в самом деле так жить, чтобы заметить старость только с последним ударом сердца!
Валя молчала. Девушки спустились к самой воде и стояли, прислушиваясь к тишине.
Ветра не было. Ели наверху стояли молчаливые, будто тоже прислушивались к чему-то, может быть, к собственному безмолвию. Не вздрагивала ни одна хвоинка. Пахло еловыми шишками, тронутой морозцем травой, можжевельником и свежестью осенней воды. Повсюду — над деревьями, над рекой — медленно тянулись по воздуху серебряные паутинные нити. Они проплывали над багряными кронами вздрагивающих осинок, цеплялись за листья и горели в пропитанном солнцем воздухе, как тысячи маленьких радуг. Иные поднимались в небо и исчезали. И, может быть, это от них небо становилось прозрачным и бледным.
— Как чудно здесь, Таня! — шепотом, чтобы не нарушить тишины, проговорила Валя, сжимая Танину руку.
Вода вдалеке сверкала почти зеркальной гладью, тронутой чуть заметными рябинками. Она отражала небо и, казалось, хотела вернуть ему пролитый в нее свет. У берега вода была черной и мертвой. Она несла желтые, алые и бурые листья. Иные уплывали по течению, иные, запутавшись в лозняке, застыли.