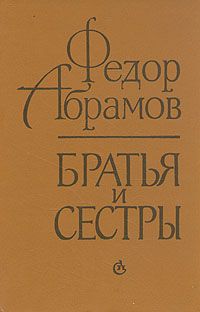Федор Абрамов - Дом
На Усть-Сотюге он разжег огонь, полежал на зеленом лужку, зарывшись босыми разгоряченными ногами в прохладную шелковую отаву, посидел у речки нельзя было не посидеть у реки своей молодости, на которой держал фронт в Великую Отечественную, — а потом, свежий, передохнувший, пошел на свидание с Красным бором.
Да, на свидание. На свидание с красноборскими соснами. Потому что — что это такое? Прошел-прошагал добрую треть Пинеги — и ни одного стоящего соснового бора. Попадался кое-где жердяк, попадались в ручьях отдельные дерева, а чтобы сосновый лес верстами, километрами, да по обеим сторонам дороги, как это было в войну и после войны, да чтобы в том лесу птицы, зверя полно было — нет, такого леса не видел. Все вырублено, все пни и пни на десятки, на сотни верст. И вот наконец-то он, думал, отдохнет глазом в Красноборье да заодно отдохнет и душой, потому что тут у него под каждым деревом когда-то была жизнь. Жизнь с Михаилом, с Лизой, с Раечкой.
По новому, еще не потемневшему мосту он перешел за Сотюгу, поднялся в пригорок — и что такое? Где Красный бор? Налево вырубки, направо вырубки.
Нет, нет, не может быть. Это только по закрайку погулял чей-то шальной топор, а сам-то бор не тронут. В войну, в послевоенное лихолетье устоял старик, а нынче-то какая нужда сокрушать его?
Сокрушили.
Лесная пустошь, бесконечные, бескрайние заросли мелкого кустарника открылись ему, когда он перебежал темный еловый ручей, в который упирались вырубки.
Долго, несчитанно долго стоял он посреди песчаной дороги, тиская скользкую капроновую шляпчонку в потной руке и пытаясь воскресить в своей памяти картину былого могучего бора, а потом сел на пень и впервые за многие-многие годы заплакал.
Не он, не он отдавал приказы сводить пинежские боры, не он засевал берега сегодняшней Пинеги пнями. Но, господи, разве вся его жизнь за последние двадцать лет не те же самые пни?
Да, двадцать лет он топтал и разрушал человеческие леса, двадцать лет оставлял после себя черные палы.
В президиуме у жизни не сидел, вкалывал, прочертил след на великих стройках века, но баб и девок перебрал — жуть. Всех без разбора, кто попадался под руку, валил. Сплошной рубкой шел. И на месте не задерживался: взял, выкосил свое — и вперед, на новые рубежи. И что там оставалось позади — слезы, плач, разбитая жизнь, ребенок-сирота — плевать.
Да, Мамаем прошел он по человеческим лесам, и ему ли сейчас предъявлять счет за пинежские леса?
В Водянах, на том берегу, было какое-то гулянье: из-за реки слышно, как в две гармошки наяривают, пьяные песни орут. Справляют, должно быть, какой-то праздник, а то и без всякого повода веселятся. Потому что у этих водянинцев всегда все наоборот. Бесперспективная деревня, смертный приговор вынесен — надо бы плакать, убиваться, слезы лить, а они не унывают, день прошел, и ладно.
А может, закатиться? Стряхнуть с себя дорожную пыль? Полдеревни старых дружков-приятелей — какой загул можно дать!
Не пошел. Шальное желание погасло, как только переехал за реку да поднялся в крутой бережок. Тут тропинка подхватила, понесла его вниз по Пинеге, по зеленым лугам.
Был разгар бабьего лета, было солнечно, тепло, была чаячья игра на реке, и отовсюду, со всех сторон смотрели на него зеленые Лизкины глаза. Да, да, да, Лизкины! Всю дорогу волновался, переживал, когда видел зеленую отаву на лугах, на обочинах, на полянах, а вот что это такое, понял только сейчас, когда стал подходить к Пекашину.
Муть, мура все эти бабы и девки! Никого не было, никого не любил, кроме Лизки. А то, что сбежал от нее, двадцать лет шатался черт те где… Да как было сразу-то узнать, разглядеть свое счастье, когда оно явилось к тебе какой-то пекашинской замухрыгой, разутой, раздетой, у которой вечно на уме только и было что кусок хлеба, да корова, да братья и сестры?
Решение пришло внезапно, как в былые годы: первым делом отвоевать у Пахи Баландина избу. Любой ценой сохранить дедовский дом. Ну а потом, потом посмотрим…
С этим решением он подошел к пекашинскому перевозу.
— Эхе-хей! — нетерпеливо кинул за реку. — Лодку давай!
А затем в ожидании перевозчика — тот уже шастал к Пинеге, по хрустящему галечнику слышно было — жадно, истосковавшимися глазами пробежался по красавице деревне, которая горделиво поглядывала на мир со своей зеленой горы.
Глаз зацепился сразу же за дом Михаила — самая видная постройка в верхнем конце, — но разгоряченный, уязвленный ум не хотел мириться с превосходством старого друга-соперника, и он с вызовом подумал: врешь, Мишка! До деда ты все равно не дотянул.
Одним махом головы, совсем как бывало в молодости, он перекинул глаза на нижний конец пекашинской горы, к знакомой с детства развесистой лиственнице, туда, где стоит ставровский дом.
Дома не было. В синем небе торчала какая-то безобразная уродина со свежими белыми торцами на верхней стороне. И он понял, нельзя было не понять: дом разрубили.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
О доме не говорили ни за обедом, ни за ужином. Вспоминали Федора, толковали про нового управляющего, про погоду, а о доме ни слова, хотя он гвоздем сидел у каждого в голове.
На Лизу в эти дни больно было смотреть. Она почернела, погасла глазами, потому что во всем винила себя. И как ей было помочь, чем утихомирить ее взбудораженную совесть?
Однажды утром Петр сказал:
— Ты не будешь возражать, сестра, если я на наши хоромы ставровского коня поставлю?
— Коня с татиного дома? На наш?
— А почему бы нет? Видел я вчера, валяется конь на земле — не увез Баландин.
У Лизы во все лицо разлились зеленые глаза, а потом она вдруг расплакалась;
— Ох, Петя, Петя, да я не знаю что бы дала, чтобы татин конь у нас на дому был! Все бы память о человеке на земле, верно?
— Будет конь! — сказал Петр и тотчас же пошел договариваться насчет машины.
«МАЗ» с прицепом в совхозе был на ходу — братья Яковлевы перевозили с верхнего конца в нижний свой дом, — и в полдень ставровский тяжеленный охлупень с конем ввезли к Пряслиным в заулок.
Лиза в это время была дома и босиком выбежала на улицу. Выбежала, подбежала к коню и давай его кропить слезами.
— Ну ты и дура же, Лизка! — покачал головой Иван Яковлев. — Сколько живу на свете, не видывал, чтобы дрова со слезами обнимали.
Но что понимал в этих дровах Иван Яковлев! Ведь не просто деревянного коня сейчас ввезли к ним в заулок. Степан Андреянович, вся прошлая жизнь въехала с конем на их подворье.
2Что такое человек? Что мы за люди?
Убивалась, умирала все эти дни Лиза, ночами давилась от слез, а вот привезли коня — и вновь воскресла, вновь ожила. Как веточка, на которую брызнуло дождиком, зазеленела. И Петр, провожая ее глазами с высоты своей стройки, дивился тому, как она бежала по мосткам через болото. Бежала своим легким, бегучим шагом, как бы играючи, и головной платок белыми искрами вспыхивал на солнце. И он представил себе, с каким рвением, с каким неистовством она примется сейчас за работу. Все переделает, все зальет своей радостью: и телятник и телят.
А что же с ним происходит? Почему у него перестал в руках бегать топор?
По горизонту синими увалами растекались родные пинежские леса. И там, за этими лесами, была новая хмельная жизнь, о которой он так много мечтал: Григорий одумался, сам на днях сказал, что с сестрой остается. Так почему же он не радуется? Почему все эти дни он смотрит не туда, не в синие неоглядные дали, а вниз, на тесный заулок, где возле крыльца на желтом песочке играет с детишками Григорий?
Он был в полной растерянности. Он был подавлен.
Сколько лет назад наяву и во сне бредил он свободой, жизнью без брата, а вот пришел долгожданный час, сбросил с себя хомут — и тоскливо и муторно стало на сердце.
Бабье лето выложилось в этот день сполна. На дому было жарко от солнца, ребятишки на улице бегали босиком. А в навинах, на мызах что делалось? Красные осины, березы желтые, журавли трубят хором. И праздник был под горой, на зеленых лугах, на Пинеге, играющей на солнце.
Петр слез с дома. Через пять дней кончается отпуск — так неужели хоть раз за два месяца не пройтись без дела по деревне, не послушать Синельгу, не побывать у реки?
3Приусадебные участки по задворью цвели платками и платьями — бабы копали картошку, — и сладким дымком, печеной картошкой тянуло оттуда. Совсем как в далекие годы детства.
И Петр, с удовольствием вдыхая этот дымок, прошел по деревне до самого верхнего конца, до обветшалого домика Варвары Иняхиной, с которой столько было связано у них, у Пряслиных, переживаний и передряг, затем спустился к Синелые, побывал на мызах, в поскотине, вышел к Пинеге. И вот какое у него прошлое — ни единого самостоятельного воспоминания. Все пополам с братом.