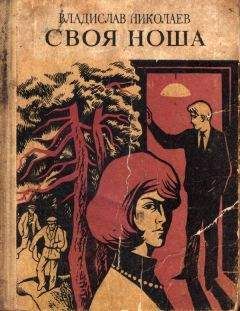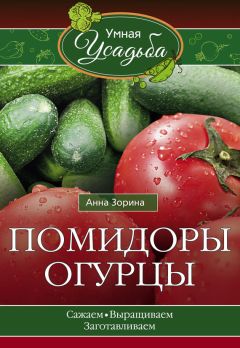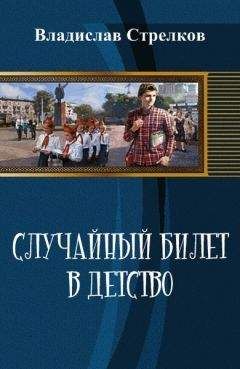Владислав Николаев - Мальчишник
— Та-та-та, — вдруг забил мотор.
Сашка обтер рукавом мокрый лоб и, перешагнув через костровище с хворостом, побрел на ватных ногах к тенту. Уже не хотелось никакого чаю, а хотелось упасть навзничь, вытянуть слабые ноги и забыть обо всем на свете — о вертолетчиках, о Дерябине, о своей незадавшейся жизни.
Постукивание мотора с каждой минутой слышалось все глуше и глуше и опять напоминало гудение вертолета. Сашка приподнял полог, залез с сапогами на вонючие свалявшиеся овчины, служившие ему постелью, вытянул ноги…
«Пока не поздно, мотать надо с реки», — думает он. Что его держит? Работа? Да какая же это к дьяволу работа — три месяца в году! — одна видимость, а не работа. В начале лета получает он от рыбзавода полтонны бензина, два куля соли, сухари, сахар, чай, крупы разные, макароны, молоко сгущенное — чего душа пожелает — и на своем моторе, разбитой «Москве», поднимается за двести верст по Щугору вверх, ловит на кораблик хариусов, засаливает в бочках, вытапливает из внутренностей жир, а осенью, подгоняемый снежком, скатывается обратно, рассчитывается добытым за сожженный бензин и съеденный харч: хариусы идут по тридцать копеек за килограмм, жир — по рубль с полтиной. Деньги! Кто видит их, так это Кузьма, который даже бензин ухитряется добывать где-то на стороне, задарма, а провиант весь возит домашнего изготовления: сухари из объедков, бруски свиного сала, масло, и так с ним жмется, что тошно смотреть… Зато осенью он уж и поплюет на пальцы, так и этак перебирая толстую пачку червонцев, а Сашке и счетом не потешить себя: почти весь заработок уходит за аванс. Вот и должен еще полагаться на семужку (хотя Кузьма тоже не промах: попадется — обратно в реку не выпустит). Летом семужка выручает, а зимой — лось. Зимой в их деревне и вовсе не заработаешь. В колхозе в эту пору своим делать нечего… Как-то пригнали из города тунеядца да тунеядку, так председательша Дуська Потоскуева наотрез отказалась их принять. «Своих хватает!» — заявила она, намекая и на Сашку, и на Кузьму, и еще на трех мужиков, промышлявших для рыбзавода.
Как ни крути, с какой стороны не взглядывай, а права председательша — тунеядец он, браконьер, волк, не по закону живет, оттого и нет в его жизни никакой твердости, а есть только одна шаткость да неуверенность. Давно бы пора расписаться с Катей, ввести в избу, жить вместе. И люба она ему, и жена уже, считай, а он все тянет, изворачивается, все боится — изловят, посадят, падет срам на Катину голову. Но он этого не может позволить. Лучше уж врозь. Пока врозь, все, что он делает, ее вроде бы не касается.
Нет, надо мотать, мотать! И есть куда. Старший брат приглашает в Воркуту: «С твоей-то силой по пятьсот будешь выколачивать в шахте». Средний зовет на нефтеразведки, тоже грозится большими деньгами. Оба они чуть ли не с малолетства разъезжают по стране, только он, меньший, все еще, как Иванушка-дурачок, сидит на отцовской печке. И отца уже нет, и матери нет, а он все сидит…
«Заколотить избу или продать на дрова, — наконец решает Сашка. — Катю с собой и айда. Куда глаза глядят. Хоть в шахту, хоть в разведку, хоть мешки таскать где-нибудь на пристани. Хуже не будет, а человеком станешь».
2Напористо и слитно гремел по брезенту дождь. Влажный ветерок шевелил обсыпанные каплями марлевые стенки полога. Впервые за весь день легко дышалось.
Спать бы да спать в такую погоду, отлеживаться вволю со злого похмелья. Но сквозь сон Сашке показалось, будто он уловил вблизи чужие голоса. Тут и Кукла предостерегающе взлаяла на берегу. Значит, не ошибся, слышал-таки голоса. И Сашку точно кто в бок подтолкнул: неужели Дерябин?
Он проворно сел на овчинах, поднял полог и высунул наружу голову.
Нагоняя на землю сумеречь и холод, ворочались в небе тяжелые косматые тучи. Густо лил дождь. Потемнел лес на противоположном берегу. Потемнели камни. Только одна река светло и ясно кипела от дождевых струй.
А по реке, по вспененной быстрине, неслись, проплывали, стоя по щиколотку в воде, двое — насквозь промокшие парень и девка.
Сашка даже сразу не сообразил, на чем они плывут, на какой такой подводной лодке, и только вглядевшись получше, разобрал: да на плоту же, на малюсеньком салике, полностью затонувшем под их тяжестью. «Туристы, — успокаиваясь, подумал он. — И, видать, неопытные».
Те двое отчаянно махали короткими оструганными шестами, гребли, толкались о дно, пытаясь направить плот к берегу, но быстрина не выпускала его, протаскивала вместе с пеной мимо Сашкиной стоянки. Наконец девка выбилась из сил, швырнула шест в воду и, оборотив к Сашке наполовину скрытое под капюшоном бледное личико, крикнула обиженным слабым голосом:
— Ну что вы смотрите? Помогите же!
Сашка уже был на ногах. Он взял из лодки моток веревки и запрыгал по камням вслед за плотом. Кукла, перестав лаять, бежала впереди хозяина.
— Сейчас, милая, — бормотал на ходу Сашка, радуясь и тому, что это туристы, а не Дерябин, и тому, что целый вечер проведет среди людей, в разговорах, которые отвлекут его от самого себя.
Метрах в пятистах от стоянки река круто загибала вправо, течение било в левый берег, и плот так близко вынесло к камням, на которые успел выскочить Сашка, что ему даже не пришлось веревкой воспользоваться, — перехватил рукой. Туристы выбрели на берег. Плотик сразу же всплыл, показав все свои жалкие суковатые жердочки, связанные между собой чем попало — где гнилой веревкой, где ржавой проволокой, а в одном месте даже шелковой лентой; чудно было, что он еще держал, не рассыпался на перекатах; всплыли на поверхность и два тощих промокших рюкзака и подвязанная к ним сверху не то доска, не то что другое, плоское и широкое, тщательно завернутое в клеенку.
— Спасибо, друг! — парень торжественно протянул Сашке костлявую худую руку; сам он был тоже худ и костляв, и его можно было бы признать за подростка, еще неокрепшего, еще тянущегося вверх, если бы узкое лицо не обросло рыжей христосовской бородкой; да и весь он своей прозрачностью, худобой, длинными волосами и этой бородкой походил на Иисуса. Сашка тотчас подумал, что в деревне его так бы и прозвали — Исусик.
— Спасибо, спасибо, — с жаром тряс он Сашкину руку, будто тот сотворил сейчас невесть какое благодеяние. — Унесло бы черт-те куда — и до стоянки твоей не добрести. Совсем до ручки дошли. Сверху вода, снизу вода. Спички промокли, обогреться нечем. Да что обогреться! Третий день крошки во рту не было, с ног от голода валимся. Вся надежда на тебя, брат. В накладе не останешься. Я, понимаешь ли, художник. Из Москвы. А это моя жена, — кивнул он на девушку, стоявшую молча за его спиной с растопыренными руками. — В клеенке — мои работы. Перестанет дождик — покажу.
Несмотря на бедственное положение, в какое они попали, художник говорил веско, уверенно, с сознанием собственного достоинства, словно наперед знал, что ему не откажут, помогут, выручат. Впрочем, почти все, кто время от времени приставал к Сашкиной стоянке, вели себя подобным образом — уверенно, требовательно, покровительственно, точно по какому-то неписаному закону он от рождения должен был им служить — и только.
— Пойдемте, — сказал Сашка.
— Ну, что я говорил! — воскликнул художник, обернувшись к своей подруге, застывшей позади все в той же неуклюжей позе. — Добраться бы только до человека или до охотничьей избушки. И мы будем сыты и обогреты! Таков закон тайги! Говорил я тебе? А ты все сомневалась, не верила… Избушка нас тоже спасла бы. Охотники оставляют в них спички, продукты, дрова. На тот случай, если забредет кто-нибудь вроде нас с тобой, голодный и продрогший. Правильно я говорю? Кстати, как вас зовут? — повернулся он снова к Сашке.
— Александр. Можно Сашкой.
— А я — Феликс, она — Вера. Ну, вот и познакомились.
Феликс взошел на плотик, и тот снова затонул под ним.
— Поклажа у нас невелика, — проговорил он, отвязывая рюкзаки. — Все съели или растеряли.
Рюкзаки и в самом деле были легкими, если что и тянули, то от воды, и Сашка оба их подвесил на левую руку, а в правую взял под мышку завернутые в клеенку работы художника.
Вера сразу же отстала. Она и шла с растопыренными руками — не гнулась затвердевшая, как железо, брезентовая куртка.
Феликс не отставал, хлюпал раскисшими сапогами рядом, рассказывал по дороге о себе, изливал душу, как бы заранее платя своей откровенностью за будущие хлеб-соль.
Он, собственно, еще не настоящий художник — учится. Вера тоже пока никто, школу только успела закончить. Поженились всего полтора месяца назад, и этот поход у них вроде свадебного путешествия. А сам он должен еще написать серию таежных пейзажей для дипломной выставки в институте. Конечно, легкомысленно было отправляться с Печоры на Урал по крупномасштабной карте, но другую в наше время где найдешь? В первые дни все было хорошо. Вдоволь продуктов, чудесная тропа. Шли по берегу быстрой холодной речки. Часто делали стоянки… Ах, эти стоянки! Еще минуту назад какая-нибудь поляна на берегу была им совершенно чужда, безразлична, как и множество других, по которым тащились, согнувшись под тяжестью рюкзаков, но вот они решают остановиться, и глаз уже с радостью примечает цветы на поляне, а по краям ее — молодые пушистые елочки, лапник с которых пойдет на лежанку, в центре — раскидистую березу, которая по утрам будет затенять палатку и не даст ей прокалиться, и эта, еще минуту назад совсем чужая, поляна вдруг становится привычной, родной, особенной, будто с детства на ней вырос. Когда же они совсем освоятся тут — поставят палатку, разожгут костер, протопчут в высокой траве тропинку к речке, то кажется обоим: лучшего места и в мире не найти… Так они влюблялись в каждую свою стоянку. Но вот речка кончилась, пропала в ржавом болоте, и все вдруг стало плохо. Ни полянок, ни березок. Марь и топь. Да еще гнус — спасу нет. И гор не видно. Тут где-то должны быть, близко, а не видно. Вскоре и совсем ориентировку потеряли. Заблудились, значит. И в рюкзаках уже легко, животы подтягивает. Феликс струхнул изрядно. Не за себя, за жену. К счастью, снова вышли на какую-то реку. Рубить настоящий плот уже сил не было, кое-как связал вот этот… А что за река и куда течет, он и теперь не имеет представления. Хорошо бы в домашнюю сторону. Досыта напутешествовались…