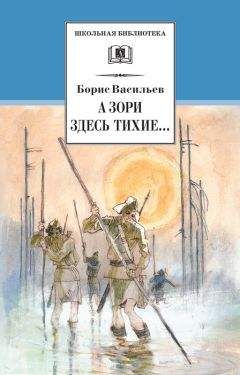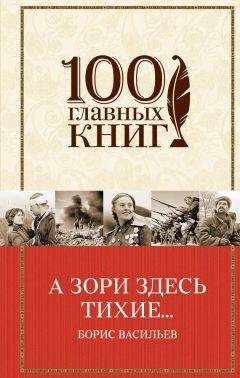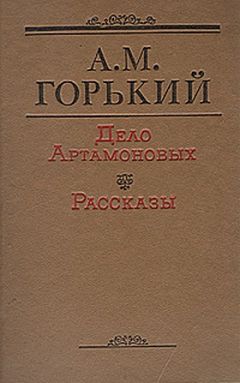Борис Васильев - А зори здесь тихие… В списках не значился. Встречный бой. Офицеры
Он старательно исполнил все, что было приказано: тихо выбрался наверх, послушал, огляделся, никого не обнаружил и начал деятельно вытаскивать из дыры оружие и боеприпасы.
А немецкие автоматчики прошли рядом. Они не заметили Волкова, а он, заметив их, не проследил, куда они направлялись, и даже не доложил, потому что это выходило за рамки того задания, которое он получил. Немцы не интересовались их убежищем, шли куда-то по своим делам, и их путь был свободен. И пока он вытаскивал из узкого лаза цинки и автоматы, пока все выбрались на поверхность, немцы уже прошли, и Плужников, как ни вслушивался, ничего подозрительного не обнаружил. Где-то стреляли, где-то бросали мины, где-то ярко светили ракетами, но развороченный центр цитадели был пустынен.
— Волков со мной, старшина и сержант — замыкающие. Быстро вперед.
Пригнувшись, они двинулись к темным далеким развалинам, где еще держались свои, где умирал Денищик, где у сержанта оставалось три диска к «дегтярю». И в этот момент в развалинах ярко полыхнуло белое пламя, донесся грохот и вслед за ним короткие и сухие автоматные очереди.
— Подорвали! — крикнул Плужников. — Немцы стену подорвали!
На голос ударил пулемет, трассы пронзили черное небо. Волков упал, выронив цинки, а Плужников, что-то крича, бежал навстречу цветным пулеметным нитям. Старшина догнал его, сбил с ног, навалился:
— Тихо, товарищ лейтенант, тихо! Опомнись!
— Пусти! Там ребята, там патронов нет, там раненые…
— Куда пустить-то, куда?
— Пусти!..
Плужников бился, стараясь высвободиться из-под тяжелого, сильного тела. Но Степан Матвеевич держал крепко и отпустил только тогда, когда Плужников перестал рваться.
— Поздно уже, товарищ лейтенант, — вздохнул он. — Поздно. Послушай.
Бой в развалинах затихал. Кое-где редко били еще немецкие автоматы: то ли простреливали темные отсеки, то ли добивали защитников, но ответного огня не было, как Плужников ни вслушивался. И пулемет, что стрелял в темноте на его голос, тоже замолчал, и Плужников понял, что не успел, что не выполнил последнего приказа.
Он все еще лежал на земле, все еще надеясь, все еще вслушиваясь в теперь уже совсем редкие очереди. Он не знал, что делать, куда идти, где искать своих. И старшина молча лежал рядом и тоже не знал, куда идти и что делать.
— Обходят. — Федорчук подергал старшину. — Отрежут еще. Убили этого, что ли?
— Помоги.
Плужников не протестовал. Молча спустился в подземелье, молча лег. Ему что-то говорили, успокаивали, укладывали поудобнее, поили чаем. Он покорно поворачивался, поднимался, ложился, пил, что давали, — и молчал. Даже когда девушка, укрывая его шинелью, сказала:
— Это ваша шинель, товарищ лейтенант. Ваша, помните?
Да, это была его шинель. Новенькая, с золочеными командирскими пуговицами, подогнанная по фигуре. Шинель, которой он так гордился и которую ни разу не надевал. Он узнал ее сразу, но ничего не сказал: ему было уже все равно.
Он не знал, сколько суток он лежит вот так, без слов, дум и движения, и не хотел знать. Днем и ночью в подземелье стояла могильная тишина, днем и ночью тускло светили жировые плошки, днем и ночью за желтым чадным светом дежурила темнота, вязкая и непроницаемая, как смерть. И Плужников неотрывно смотрел в нее. Смотрел в ту смерть, в которой был виновен.
С удивительной ясностью он видел сейчас их всех. Всех, кто, прикрывая его, бросался вперед, бросался не колеблясь, не раздумывая, движимый чем-то непонятным, непостижимым для него. И Плужников не пытался сейчас понять, почему все они — все погибшие по его вине — поступали именно так: он просто заново пропускал их перед своими глазами, просто вглядывался неторопливо, внимательно и беспощадно.
Он замешкался тогда у сводчатого окна костела, из которого нестерпимо ярко били автоматные очереди. Нет, не потому, что растерялся, не потому, что собирался с силами: это было его окно, вот и вся причина. Это было его окно, он сам еще до атаки выбрал его, но в его окно, в его бьющую навстречу смерть кинулся не он, а тот рослый пограничник с неостывшим ручным пулеметом. И потом — уже мертвый — он продолжал прикрывать Плужникова от пуль, и его загустевшая кровь била Плужникову в лицо как напоминание.
А наутро он бежал из костела. Бежал, бросив сержанта с перевязанной головой. А сержант этот остался, хотя был у самого пролома. Он мог уйти и — не ушел, не отступил, не затаился, и Плужников добежал тогда до подвалов только потому, что сержант остался в костеле. Так же как Володька Денищик, грудью прикрывший его в ночной атаке на мосту. Так же как Сальников, сваливший немца тогда, когда Плужников уже сдался, уже не думал о сопротивлении, уже икал от страха, покорно задрав в небо обе руки. Так же как те, кому он обещал патроны и не принес их вовремя.
Он недвижимо лежал на скамье под собственной шинелью, ел, когда давали, пил, когда подносили кружку ко рту. И молчал, не отвечая на вопросы. И даже не думал: просто считал долги.
Он остался в живых только потому, что кто-то погибал за него. Он сделал это открытие, не понимая, что это — закон войны. Простой и необходимый, как смерть: если ты уцелел, значит, кто-то погиб за тебя. Но он открывал этот закон не отвлеченно, не путем умозаключений: он открывал его на собственном опыте, и для него это был не вопрос совести, а вопрос жизни.
— Тронулся лейтенантик, — говорил Федорчук, мало заботясь, слышит его Плужников или нет. — Ну, чего будем делать? Самим надо думать, старшина.
Старшина молчал, но Федорчук уже действовал. И первым делом старательно заложил кирпичами ту единственную щель, которая вела наверх. Он хотел жить, а не воевать. Просто — жить. Жить, пока есть жратва и это глухое, не известное немцам подземелье.
— Ослаб он, — вздыхал старшина. — Ослаб лейтенант наш. Ты корми его помаленьку, Яновна.
Тетя Христя кормила, плача от жалости, а Степан Матвеевич, дав этот совет, сам в него не верил, сам понимал, что ослаб лейтенант не телом, а сломлен, и как тут быть — не знал.
И только Мирра знала, что ей делать: ей надо было, необходимо было вернуть к жизни этого человека, заставить его говорить, действовать, улыбаться. Ради этого она притащила ему шинель, о которой давно забыли все. И ради этого она в одиночестве, ничего никому не объясняя, терпеливо разбирала рухнувшие с дверного свода кирпичи.
— Ну, чего ты там грохочешь? — ворчал Федорчук. — Обвалов давно не было, соскучилась? Тихо жить надо.
Она молча продолжала копаться и на третий день с торжеством вытащила из-под обломков грязный, покореженный чемодан. Тот, который так упорно и долго искала.
— Вот! — радостно сказала она, притащив его к столу. — Я помнила, что он у дверей стоял.
— Вон чего ты искала, — вздохнула тетя Христя. — Ах, девка, девка, не ко времени сердечко твое вздрогнуло.
— Сердцу, как говорится, не прикажешь, а только — зря, — сказал Степан Матвеевич. — Ему бы забыть все впору: и так слишком много помнит.
— Рубаха лишняя не помешает, — сказал Федорчук. — Ну, неси, чего стоишь? Может, улыбнется, хотя и сомневаюсь.
Плужников не улыбнулся. Неторопливо осмотрел все, что перед отъездом уложила мать: белье, пару летнего обмундирования, фотографии. Закрыл кривую, продавленную крышку.
— Это — ваши вещи. Ваши, — тихо сказала Мирра.
— Я помню.
И отвернулся к стене.
— Все, — вздохнул Федорчук. — Теперь уж точно — все. Кончился паренек.
И выругался длинно и забористо. И никто его не одернул.
— Ну что, старшина, делать будем? Решать надо: в этой могиле лежать или в другой, какой?
— Чего решать? — неуверенно сказала тетя Христя. — Решено уж: дождемся.
— Чего? — закричал Федорчук. — Чего дождемся-то? Смерти? Зимы? Немцев? Чего, спрашиваю?
— Красной Армии дождемся, — сказала Мирра.
— Красной?.. — насмешливо переспросил Федорчук. — Дура! Вот она, твоя Красная Армия: без памяти лежит. Все! Поражение ей! Поражение ей, понятно это?
Он кричал, чтобы все слышали, и все слышали, но молчали. И Плужников тоже слышал и тоже молчал. Он уже все решил, все продумал и теперь терпеливо ждал, когда все заснут. Он научился ждать.
Когда все стихло, когда захрапел старшина, а из трех плошек две погасили на ночь, Плужников поднялся. Долго сидел, прислушиваясь к дыханию спящих и ожидая, когда перестанет кружиться голова. Потом сунул в карман пистолет, бесшумно прошел к полке, где лежали заготовленные старшиной факелы, взял один и, не зажигая, ощупью направился к лазу, что вел в подземные коридоры. Он плохо знал их и без света не надеялся выбраться.
Он ничем не брякнул, не скрипнул, он умел бесшумно двигаться в темноте и был уверен, что никто не проснется и не помешает ему. Он обдумал все обстоятельно, он все взвесил, под всем подвел черту, и тот итог, который получил он под этой чертой, означал его неисполненный долг. И лишь одного не мог он учесть: человека, который уже много ночей спал вполглаза, прислушиваясь к его дыханию так же, как он прислушивался сегодня к дыханию других.