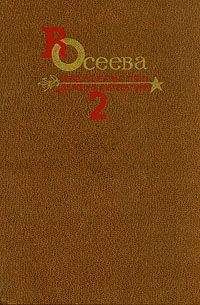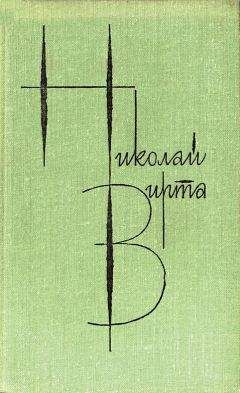Валентин Катаев - Собрание сочинений в девяти томах. Том 1. Рассказы и сказки.
Улица надвигалась улиткой, надвигалась всем своим каменным гулом, всей новизной своих красных вывесок и запертых ворот.
Но одни ворота открылись. Часовые отошли. Красный флаг трепало над стеклянной дверью комендатуры.
— Заводи во двор!
Вместе с другими, но как бы впереди себя, Синайский вошел во двор. Входя, он не обернулся. Ему не надо было оборачиваться. Он знал, что отец не мог не стоять на другой стороне улицы, против ворот. Он знал, что колени и руки отца были испачканы и на щеках присохли кляксы грязи. Он знал, что отец не нашел пенсне и шляпы и с непокрытой головой, как нищий, бежал, спотыкаясь и кланяясь, до самых этих ворот. Он чувствовал за спиной его заплаканные, малиновые, удивительные без пенсне, собачьи глаза. Он чувствовал его дрожь и отчаяние, но это уже было не важно и не нужно.
Ветер раздувал на клумбе пионы и бушевал в лимонной листве акаций.
Его ввели в комнату с безумно исписанными обоями. Стекла содрогались от грохота выезжавшего со двора грузовика. По стеклам летали вялые ветви. Жажда выжгла горло, как глину, и в сумрачной кухне Синайский пил воду губами из крана, обливая грудь и захлебываясь. В медном кране, отражаясь, горела лампочка слабого накала, неутолимая, как жажда. Мимо окон, весь в румянце от невидимой зари, прошел часовой.
Комиссар вошел в комнату и велел идти. Синайский прошел коридором и стал подыматься по мраморной лестнице с клеткой лифта, окоченевшей между двумя этажами, не смея оборачиваться и чувствуя за спиной у себя повелевающий пистолет. Они проходили сквозь коридоры пустых квартир, поворачивая вправо и влево, опускались по громыхающим железным лестничкам черных ходов, снова подымались, и бой шагов башмачным гулом стоял в раковинах кухонь и писсуарах.
Кружа в лабиринте коридоров и лестниц, они подымались все выше и выше. Встречные окна мелькали, как барограф, показывая высоту. Ветреное небо страстно вырастало над слуховыми люками и голубятнями. Крыши города опускались вниз и, опускаясь, рябили в глазах черепичной сплошью, пунцовым стыдом зари.
В пятом этаже комиссар пропустил Синайского в кабинет следователя и остановился за дверью. Посредине огромной комнаты стоял письменный стол. На столе горела зеленая лампа. Следователь сидел в кресле. Половина его сонного лица была освещена лампой, половина зарей. Он посмотрел на Петра Ивановича привычно и придвинул початую четвертку табаку.
Петр Иванович зашатался от шума, хлынувшего в голову, и от крови, переполнившей сердце. В глазах посинело, затем все ослепительно зажглось, и страшно захотелось курить. Он сел на стул и дрожащими пальцами стал сворачивать папиросу, просыпая табак и рвя бумагу. Следователь щелкнул зажигалкой и подал ему багровое пламя. Синайской жадно затянулся.
— Если есть, — сказал он, задыхаясь, — если есть...
Следователь вяло вышел из комнаты. Его глаза были сонными. Он долго не возвращался. Недосказанные слова спирали Петру Ивановичу горло. Он выкурил папиросу и скрутил другую. В полной тишине где-то внизу, в подвалах, трудно, туго и высоко, как совесть, гудело динамо, единственный работающий в городе электромотор, и весь дом прислушивался, содрогаясь, к его непрерывной работе.
Синайский встал и во весь рост увидел окно. Темный ветер катил за стеклами по крышам крымские яблоки облаков. Розовая чернота смерти надвигалась на глаза.
«Так вот оно как», — подумал Петр Иванович, стоя посередине комнаты, среди оцепеневших вдруг окон, запертый коварно остановившимися облаками. «Так вот оно как», — думал он, не в силах сдвинуться с места и уже ничего не видя, кроме гипсовой маски своего лица, и ничего не слыша, кроме шагов и движения за дверью. Шаги и шум приближались, вырастали до неизмеримых пределов, и снова удалялись, и снова приближались, а он продолжал стоять в третьей позиции, не смея сдвинуть носков и зная, что, пока он их не сдвинул, ручка двери не повернется. Но на голом, ярко освещенном полу валялись клочки бумаги и окурки. Он знал, что, пока они валяются, ручка может повернуться, и надо их поскорее убрать. Но убрать их, не сдвинув носков, было невозможно. И оставить их на полу было невозможно. И Петр Иванович, выжидая, когда шум удалялся, быстро хватал бумажку, кидал в плевательницу и с бьющимся сердцем, как ни в чем не бывало, ставил ноги в безопасную позицию. Но шум накатывал снова. Неубранные бумажки белели на голом полу, как улики. Ручка готова была повернуться. Но грохот удалялся, и Петр Иванович, как вор, торопясь и задыхаясь, убирал с полу бумажки. Вот осталась всего одна. Маленький треугольный клочочек. Он лежал в самом дальнем углу, на самом видном месте. Надо было успеть, надо было перебежать комнату. От этого зависело все. Петр Иванович бросился за бумажкой. Но грохот настиг его с поличным. Ручка дрогнула. Он зажал бумажку в кулаке и, обливаясь потом, как ни в чем не бывало, замер на бегу в безопасной позиции, но не удержался, и носки разъехались. Ручка поворачивалась. Отчаянная жажда жизни охватила его в это мгновение между поворотом ручки и движением двери. «Ах, если бы можно было сжаться до точки, исчезнуть, испариться! Закрыть глаза и растаять! Сгинуть! Превратиться в бумажку! Превратиться в отца, — подумал Петр Иванович в это мгновение, — в самом деле, отчего бы не превратиться в отца! Та же фамилия! Та же кровь. Та же самая жизнь. Только моя — начало, а его — конец. А небось не согласился бы поменяться участью с сыном! Проклятая стариковская жадность — цепляться за жизнь. Оплакивать сына, и жить, и дышать, и ходить по урокам. Слышишь, отец! Так где же твоя хваленая отцовская любовь! Где же твое хваленое отцовское горе?!»
Открылась дверь.
Следователь вошел с жестяным чайником и налил себе кружку чаю.
— Если есть... — хрипло сказал Петр Иванович, но следователь внимательно смотрел на него снизу вверх рогатыми глазами и, не торопясь, выдвинул ящик стола. Он опустил в него руку с голубым якорем и взял какой-то предмет. С вялой тщательностью он долго переводил взгляд с этого предмета на Синайского, задумчиво сличая и удивляясь, опять сличая, и вдруг лицо его стало железным, скулы натужились желваками, и он стукнул по столу кулаком так, что подпрыгнул чайник.
— В камэу! — крикнул он косноязычно, обнаружив прилипшую к языку стеклянную конфетку, и потянулся к кружке.
«Если есть...» — хотел вымолвить Петр Иванович, но горло стало глиняным. Он, шатаясь, вышел из комнаты.
И все.
Так просто и так понятно. «Да и быть этого иначе не могло. Разве могла произойти такая ужасная, непоправимая ошибка? — подумал Синайский. — Нет, не бывает в таких делах ошибок».
VIУспокоившийся, освобожденный и ослабевший, он вернулся в камеру и лег в свой угол на тужурку. И, засыпая, сквозь счастливый приступ неодолимого сна он слышал некоторое время за ставнями холостую работу мотора и слабые, еле уловимые выстрелы, через десять секунд каждый. Он насчитал их что-то восемь и заснул.
Поздним вечером следующего дня Синайского освободили. За спиной горел насквозь высверленный электричеством бессонный, как совесть, дом.
Только теперь он увидел, какова была погода. Неожиданный резкий ветер жег уши. Обледенелая улица, начисто выметенная и отполированная норд-остом, была черна и безлюдна. Углы переулков свистали за спиной в два пальца. Железное небо, просверленное звездами, ехало по крышам, как броневик. Никогда еще Петр Иванович не видел таким свой родной город. Он был нов и страшен. Как жили и что делали люди в этих замерзших слепых домах без воды и хлеба? В этих домах с плотно закрытыми ставнями квартир и опущенными шторами магазинов?
Скользя по льду, преодолевая ветер, Петр Иванович миновал улицу, где жил в детстве. Тут некогда была на углу аптека. В ее непомерных окнах некогда стояли стеклянные шары, полные малинового и синего пламени, полные яда, полные ламп и рефлекторов, ломивших детские глаза. Некогда в этой аптеке покупали для мамы лекарство, и отсюда сестра из общины приносила кислородные подушки, которые храпели, как умирающие, у маминых почерневших губ. И сейчас эта аптека стояла на старом месте. Но темно было в ее окнах, и только где-то в глубине за кассой чадил невидимый ночник, крутя вокруг головы Сократа большую ненужную тень. Да старик еврей, похожий на Шейлока, продавец рассыпных папирос, мерз на ступеньках со своим лотком, слабо озаренным решетчатым средневековым фонариком.
Таков был город. Но это была свобода, это была жизнь.
Чем ближе он подходил к своему родному дому, тем учащеннее и труднее колотилось сердце, тем нетерпеливее горели щеки. Руки сами собой разлетались по сторонам, как крылья, и Петр Иванович не взбежал, а взлетел, задыхаясь, по родной темной лестнице на четвертый этаж.
Перед дверью он нащупал коврик и пошарил под ним в пыли. Ключика не было. Он толкнул дверь. Она открылась. Он вошел в темную переднюю. Вешалка направо, зеркало налево. Он протянул руку налево. Пальцы уперлись в стекло, и легкий водянистый свет закачался под пальцами. Правильно — зеркало. Но где отец, в которой комнате? Он затаил дыхание. Справа под дверью светилось. Тут Петр Иванович осторожно и нежно открыл дверь. На подоконнике чадила плошка. Ветер дул из оконных щелей в слабое пламя. Тени вещей толпились до потолка в тяжелой стариковской вони и тесноте неузнаваемой комнаты. Отец в одном белье, с открытыми глазами лежал ничком на постели, поверх одеяла, трудно подвернув под себя руки и вытянув красную шею. Он весь дрожал мелкой, ровной, непрерывной дрожью, судорожно сопя и со свистом выдыхая воздух из полуоткрытого, разинутого, забитого набухшим языком рта.