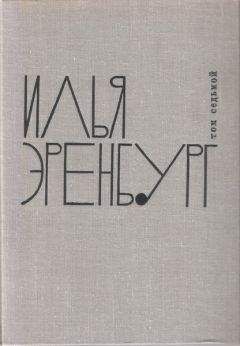Илья Эренбург - Вне перемирия
Я предложил ему пойти в кафэ. Он смущенно шепнул: „Мне нельзя пить“, но тотчас согласился. Мы пили коньяк у цинковой стойки, изъеденной кислотами. Ругалась пьяная старуха; сквозь ее пальцы сочилось красное вино. Аньер не умел пить, после первой рюмки он охмелел. Я узнал, как он живет. Женщины смеются над его кадыком. У него язва желудка; он ест только картофельное пюре. Его кот никогда не мурлычит.
Он проглотил вторую рюмку и неумело, по-детски выругался. Я забыл о холстах; мне стало жаль этого больного заброшенного человека. Я сказал: „Зато у вас интересная работа“. Он рассердился. Его голос стал пискливым: „Я ее ненавижу! Почему я не родился монтером или птицеводом? Каждое утро я говорю себе: Аньер, надо работать, и я отвечаю: дудки! Так проходит час или два. Потом я берусь за кисти. Я не знаю, счастлив ли я пока работаю. Это все равно, что спросить человека счастлив ли он, когда спит. Но когда я кончаю работу, мне хочется кричать. Я не могу глядеть на свои холсты — это как пустые бутылки после попойки. Я взял как-то тюбики с красками и начал их давить. Мне казалось, что я душу врага. Я смешал все краски. Потом я плакал: у меня не было красок и я не знал, как прожить день“.
Больше он ничего не сказал. Он простился со мной вежливо, но равнодушно, и зашагал чересчур прямой походкой нетрезвого человека, среди круглых зонтиков, под мутными рожками газа.
9То, что я хочу рассказать, может показаться бессвязным: это рассказ о моем мире. Заглядывая в оконца булочных, я завидую пекарям: запах хлеба твердит о жизни. Я завидую литейщикам и сварщикам: металл бьется, как кровь. Я завидую огородникам: они выращивают крепкие огурцы и по-детски нежный картофель. Я завидую астрономам: когда они ошибаются, наступает новая эра.
Я писал „Книгу для взрослых“ днем и ночью. Под окном грохотали грузовики, и уличные певцы оплакивали молодость. Я писал о своей жизни. Освежеванные года становились абзацами. Просыпаясь утром, я встречался с собой; это были тяжелые встречи. Я строил фразы из того, что еще недавно было моей страстью. Когда я закончил эту книгу, моя жизнь показалась мне вытоптанной, и я не знал, где мне теперь кочевать.
Я получил письмо от незнакомой француженки. Она писала: „Я учительница. Мне пятьдесят два года. Я должна рассказать о своей жизни. Сообщите, когда я могу вас увидеть. Прилагаю марку на ответ“. Я ответил с большим запозданием: я писал „Книгу для взрослых“. Письмо пришло назад с пометкой: „Адресат умер“.
Недавно я ехал из Вены в Париж. Мой попутчик оказался сотрудником парижского торгпредства. Он заведывал продажей платины для катализаторов. У него были ярко-зеленые насмешливые глаза. Он рассказал мне о параде физкультурников и в унылое купе ворвался топот Москвы. Он говорил о своей работе, о хитрости покупателей, о происках конкурентов, о вежливой ненависти врагов. Я охотно простил ему и ребячливую заносчивость и марш из „Веселых ребят“, который он насвистывал до одурения: это был человек в мире банкетов, комиссионных и низости.
Он лег на верхнюю полку. Мы пожелали друг другу спокойной ночи. Вдруг он сказал: „У меня вышла смешная история с вашей книгой. Я тогда попал в нехорошую полосу: работа не ладилась, разругался с товарищами, а тут еще бытовая неувязка. Вам, как писателю можно рассказать. Да и рассказывать собственно нечего: просто жена сошлась с другим. Мы с ней еще в одной комнате жили. Она меня раньше звала не по имени… Вроде как кличка, не стоит говорить. Вдруг я слышу она и его так зовет. Мне все в голову бросилось. На службе стал придирчив. Я на пробке работал: мы в Испании пробку покупали. Сдуру взял и забраковал. Ночью пришел к себе, мысли самые дурацкие. Револьвер у меня был… Все-таки лег. Машинально беру книжку. Роман. До утра читал. Потом вдруг спрашиваю себя: что со мной случилось? Как будто жар спал. Пошел спокойно на работу. Разве не смешно?“ Я увидел его светлую голову, свесившуюся вниз. Он несколько раз повторил: „Смешно“. Его глаза не смеялись: видимо, он с неохотой вспоминал прошлое.
Утром он добродушно фыркал, висел на ремнях вагона и махал рукой школьникам, которые толпились на платформах крохотных опрятных станций. Посмеиваясь, он сказал: „Оптимизма у вас нехватает. Ну, скажите, почему у вас книги такие невеселые?“ Поезд пробегал мимо домов; в окнах мелькали тени. Я думал о письме учительницы, на которое слишком поздно ответил.
В Париже я пошел в библиотеку: мне нужна была справка об Евгении Савойском. В библиотеке было темно и прохладно. Люди говорили шопотом. Готические окна и затхлый воздух напоминали церковь. Рядом со мной сидел молоденький студент. Читая он шевелил пухлыми губами. Я посмотрел: Иоахим Бэлле. Наверно, он готовился к экзаменам по литературе. Я вспомнил стихи Бэлле: пыль дорог и угрюмый бой стареющего сердца. Корешки на полках тускло просвечивали. Равнодушно шуршали страницы. Я записывал даты забытых всеми битв. К моему соседу подошла девушка. Они пошептались и вместе вышли. Я сдал книги сонному служащему. На улице пахло летним дождем. Пройдя несколько шагов, я увидел студента и девушку. Повернувшись спиной к прохожим они целовались.
10В городе было тревожно. По горячей пыли шагали белобрысые солдаты. Они недоверчиво глядели на приоткрытые окна верхних этажей. Жандармы штыками разрывали возы с сеном. В гробу нашли листовки, полные грозных слов. Ярусы тюрьмы гудели, как пчельник. Черноусый майор допрашивал арестованных. Когда к нему привели чахоточную швейку Риту, он усмехнулся. Рита начала петь. Майор сказал: „Говори, где типография?“ Рита крикнула: „Встать, когда поют Интернационал!“ Ее выволокли за ноги и денщик долго отмывал пятно на ковре.
Юродивый Лейба, который тридцать лет бегал с ручной тележкой, упал на землю и заржал. „Будет несчастье, — говорили хасиды, — еврей кричит, как нечистое животное“. Жена цадика зарыла в золу изумрудные серьги. Цадик говорил: „Надо плясать и веселиться. Бог любит, когда люди веселятся“. Цадик пил приторное палестинское вино, нюхал сухую гвоздику, и раздвигая грязными пальцами бороду, улыбался.
Накануне праздника Торы умерла старая Сура. Она умерла среди тряпья и ржавых сельдей. Вокруг ее койки, на лестнице, во дворе толпились хасиды. Фабрикант Зандберг крикнул мальчишке: „Сопляк, надень картуз, праведница умирает“. Из груди Суры вырвался короткий глухой звук. Портной Беркович вытер глаза и сказал: „Вот уже прогремела труба архангела, скоро придет Мессия“.
Вечером на фабрике Зандберга забастовали рабочие. Солдатам роздали патроны и папиросы. Два полицейских ввкарабкались на крышу суда, чтобы сорвать флаг. Кровавый лоскут бился по ветру, как огонь.
В день праздника Торы к цадику прибежал Зандберг. Задыхаясь, он сказал: „Пусть отсохнет мой язык, если я говорю неправду. Он был у меня на фабрике. Он говорил с рабочими“. Цадик поднял мокрые воспаленные глаза и спросил: „Кто?“ Зандберг ничего не ответил. Тогда цадик начал танцевать. Он задирал вверх припухшие подагрические ноги. Он бил себя в костлявую грудь. Его желтая борода металась, как маятник. Хасиды били в ладоши. Потом цадик остановился, плюнул на пол и закричал: „Да будут прокляты сионисты! Да будут прокляты учителя гимназии! Да будут прокляты коммунисты! Да будет проклят тот еврей, который приходил на фабрику Зандберга!“ Он еще раз плюнул и закружился по молельне.
Утром в казарме завыл рожок. Молоденький офицер волновался. Он вытирал платком пот в углах губ. Рабочие Зандберга перешли мост. Услышав рев толпы, лошади шарахнулись на тротуар. Зазвенело стекло. Офицер махнул платком и закрыл глаза.
Зандберг кричал цадику: „Это как в России. Ты увидишь, что они отберут у меня фабрику“. Цадик продолжал улыбаться: „Есть животные чистые и нечистые. Есть крохотные звезды и большая луна. Твоя фабрика — это твоя фабрика. Или ты не веришь в бога, старый бесстыдник?“ Зандберг стоял у окна. Он видел, как его рабочие опрокинули цепь солдат. Он ответил цадику: „Я верю в него, но я ему не доверяю. Это сумасшедший бог“.
Как курица в руках резника, забилась жена цадика, услышав выстрелы. Ее парик сполз; под ним оказался жалкий седой пух. На лестнице шумели хасиды: „Горе! Горе!“
„Вы врете“, — крикнул цадик. Зандберг пожал плечами: „Я тебе говорил, что он ходит на фабрику“. Помолчав, цадик сказал: „Он был плохим евреем, но все-таки он был моим сыном“. Цадик ножницами изрезал свой шелковый лапсердак, сел на пол и завыл. Рядом с ним села жена, а позади знатные хасиды. Не останавливаясь, они выли день, ночь и второй день.
Сына цадика, коммуниста Герша хоронили в горячий ветреный вечер. За гробом шли тщедушные белошвейки и рослые рыжебородые носильщики. Извозчики слезали с козел и шагали вслед. Дети рабочих несли венки от кожевников, от щетинщиков, от обойщиков. Шли крестьяне в бараньих шкурах, босоногие женщины в пестрых платках, евреи в крохотных картузиках. Полуголые цыгане, лудильщики и музыканты, выбегая из лачуг, становились в ряды. Гроб был обернут в кумач и казалось, что кровь убитого Герша проступает из гроба. На пустых площадях ветер кружил столбы пыли и слова запретных песен.