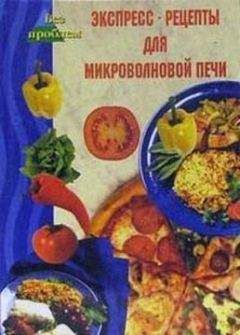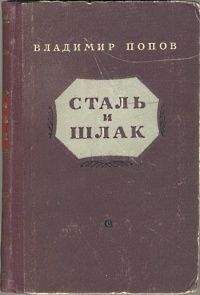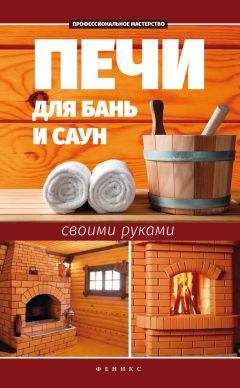Марк Гроссман - Гибель гранулемы
Абатурин удивленно вскинул брови:
— Что?
— Морская вода. Соленая. Бывает и ниже нуля.
Татьяна Петровна подкладывала Абатурину куски жареного палтуса, прозрачные ломти копченого окуня. Павел с удовольствием ел все, что предлагали, и хвалил еду.
— Ах, вкусно, — покачивал он головой. — С вилкой съесть можно.
Было видно, что он немного захмелел.
Татьяна Петровна задумчиво смотрела на Абатурина и снова наполняла его тарелку.
Внезапно лицо ее сморщилось, будто постарело на много лет. Она неловко встала со стула и, чтобы никто не заметил ее состояния, поспешила на кухню.
— Таня! — крикнул Прокофий Ильич. — Ты иди спать, Таня. Мы без тебя управимся.
Он нахмурился, бросил рассеянный взгляд на дочь:
— И ты, Люся, марш в кровать.
— Я посижу еще, папа.
— Иди, иди. Постели в Петькиной комнате. Мы же с дороги.
Вместе с сестрой ушел и Петька.
Когда они остались вдвоем, Прокофий Ильич сказал:
— Жене спать сегодня одной негоже. Я пойду.
Он встал и тяжело зашагал в спальню. Остановился на полпути, повернулся к Абатурину:
— А слез ты не видел… Понял? Когда женщине за пятьдесят, у нее много всякого в памяти. Иди, отдыхай.
Люся стелила постель для Абатурина на полу. Девушка была задумчива и не заметила его прихода. Она стояла на коленях и рассеянно взбивала подушку.
Люся была похожа на мать: худенькое милое лицо, чуть вздернутый нос, черные гладкие волосы. Было в ее застенчивом облике что-то азиатское, от башкирок его родной стороны.
Павел негромко покашлял, и девушка, вскочив, поспешила уйти.
Павлу почему-то стало неприятно это — и он вздохнул.
Петька лежал в кровати, подложив ладони под голову, и, не мигая, смотрел в потолок.
Взглянув на солдата, вздохнул:
— Вот, опять с папкой не поговорил. А мне надо… Посопел, удобнее укладываясь в кровати, пробормотал:
— И раньше, когда меня еще не было, папка всегда спешил куда-нибудь. Мама говорила. А еще он тонул. Раза три тонул. В войну.
— На корабле плавал?
— На «малютке». Подлодка такая. А потом в ПИНРО[2] работал. И книгу написал. Ты читал «Порт пяти морей»? Папкина. Ничего себе, интересная книга.
Петька натянул одеяло на подбородок, поморгал глазами:
— А теперь рыбачит. Почти что никогда дома нет… Так ты прочти книгу. Ладно?
— Я прочту, — пообещал Абатурин. — Спи.
— Ага. Я быстро засну. Надо все быстро делать.
Он отвернулся к стене, немного поворочался и затих.
Абатурин лежал с открытыми глазами и, несмотря на усталость, на выпитый спирт, не мог заснуть. Вспомнил товарищей, оставшихся на острове, попытался даже спеть про себя песни, которые пели солдаты, но почти сразу покачал головой: хотелось думать о том, что впереди, а не позади. Тогда он попытался представить себе, как вернется на Урал.
Вот входит в избу к матери, и она кидается сыну на шею. Тихонько плачет от радости бабушка. А что дальше? Кто знает, что́ дальше? Он только за год до армии окончил школу и совсем немного поработал монтажником на стройке слябинга. Проучился полгода в строительном техникуме, на вечернем отделении. Опять, видно, с первого курса начинать придется. Все сначала…
Дымы огромного комбината хорошо заметны из села, где живут мать и бабушка. Павел погостит у родных и снова уйдет на завод. А что ж — у него неплохая работа, ее стоит любить: и воздуха, и света сколько угодно. Ну, а потом? Любовь, семья? Неизвестно. Павел всегда как-то стеснялся женщин… Может, остаться здесь, в Заполярье? Дел везде много. Нет. Человек не выбирает себе место рождения, а все равно маленький кусочек земли, где родился, навсегда свят для него. Это уж так — и тут ничего не сделаешь… Но родился-то в России, не век же топтаться на одном клочке страны.
Павел представил себе длинные степные улицы села; ветры, прилетавшие к околице откуда-то из оренбургских и среднеазиатских степей. Пахли они сухим разнотравьем, каленой землей и еще терпким конским потом.
Отец, вечно трунивший над излишней набожностью жены и матери, усаживая сына на неоседланную лошадь, говорил:
— А ну, пробежись, казак, наметом. Да коня, смотри, не упарь.
— Не упарю, батя, — обещал Пашка, краснея от удовольствия. — Только ты гляди за мной.
— Пущай за тобой бог глядит… — крутил усы старший Абатурин и подмигивал жене.
— И не стыдно? — бранилась Марфа Ефимовна. — От истины сына отваживаешь, от бога.
— Коли в душе его нет, так и крест на гайтане — не спасение! — смеялся отец и стукал лошадь пудовым кулаком в круп.
Конь с места брал галопом, жесткие волосы гривы хлестали Пашку в лицо, и он, задыхаясь от ветра и радости, несся по степи.
Отец ушел на войну в июне сорок первого, счастливо провоевал почти до ее конца, но весной сорок пятого подорвался на мине и умер в госпитале.
Мать, до беспамятства любившая мужа и ушедшая к нему в юности против воли родителей, голосила и билась в истерике, пока совсем не обессилела. По ночам, в бреду, она ругала бога, а утром с ужасом думала о своем отступничестве, и уже была убеждена, что несчастье постигло ее за ересь.
С тех пор всю свою мало истраченную любовь мать обратила на сына.
А он вот теперь еще раздумывает — возвращаться или не возвращаться на родину! Нехорошо.
Больше ни о чем думать не хотелось, а сон все не приходил.
Внезапно Павел приподнялся на локтях и удивленно вскинул брови.
Дверь заскрипела, и в комнату тихо вошел Прокофий Ильич.
Он приложил палец к губам, сказал шепотом:
— Лежи. Я на минутку. Трубку выкурю и уйду.
Присел на табуретку, подымил, спросил внезапно.
— Домой приедешь — что делать будешь?
— На завод пойду, Прокофий Ильич. Монтажник я. Плохенький пока, но монтажник. И техникум кончать надо.
— А-а, доброе дело, — ровно заметил капитан. — Семьи нет?
— Не женат еще.
— Собираешься?
— Не знаю.
Помолчали.
— Не спится?
— Не спится, Прокофий Ильич.
— Знаешь что? Пойдем в столовую. Здесь Петьку разбудить можно. А там никому не помешаем. Поболтать можно.
В столовой Прокофий Ильич спросил:
— Вина еще надо? Нет? А я рюмку, пожалуй…
Налил себе четверть стакана спирта, выпил, зажег трубку.
Абатурин несколько раз порывался задать вопрос, но так и не решился.
— О чем спросить хочешь? — поднял на него глаза капитан.
— Да так… пустое…
— И о пустом можно.
— Зачем в гости позвали? Неловко. Никакого проку от меня.
— Выгоды?
Абатурин пожал плечами.
— А зачем мне выгода?
Павел смешался:
— Я не то говорю. А зачем вообще?
Иванов погрыз мундштук трубки, сказал, с излишним вниманием рассматривая струйку дыма:
— Так просто… поболтать охота. С мужиком…
Нахмурился, обронил совсем тихо:
— Гришки вот нету. Теперь товарищем стал бы… мне…
Добавил огорченно:
— Петька — что? Малек еще… Не больно посоветуешься.
— Жена же есть и дочь большая, Прокофий Ильич.
— Мужик нужен, — повторил Иванов. — Тебе трудно понять. Молоденький. А мне и о смерти не вредно подумать.
Павел не нашелся, что сказать.
Прокофий Ильич поджег погасшую трубку.
— Ты еще ни в кого не влюблялся? — внезапно спросил он. — Не было такого?
— Нет, — неуверенно промолвил Абатурин. — Об этом все разно говорят. Так чтоб насмерть влюбиться — не было.
— А не насмерть?
— Девочка одна мне в школе нравилась… Аля Магеркина. Красивая была, застенчивая… А больше никто.
— Ну, не ты, так в тебя еще не раз влюбятся. Кому больше, кому меньше выпадает, но всем.
Он поерошил мягкие седеющие волосы, произнес задумчиво:
— Любовь — она, Паша, всякая бывает. И ты уже понимаешь, не только я, старик: слово одно, а означает многое, разное. И настоящая случается, и так себе — пена… Ну так вот — смотреть надо, чтоб тебе баклыш[3] киль не распорол.
Прокофий Ильич усмехнулся:
— Проповедь читать легче, чем быть святым.
— Нет, пожалуйста, — невпопад откликнулся Абатурин. — Мне интересно.
— Семья — она вроде лодки, что ли. И курс у нее один должен быть. И парус надут настоящим ветром. А иначе — что ж? — парус без ветра — только большая унылая тряпка.
— А у вас как? — покраснел Абатурин. — Вы ведь давно женаты.
— У меня?.. — капитан замешкался с ответом и накрыл густыми бровями глаза. — У меня — га́лфинд. Знаешь что такое га́лфинд? Это — полветра, ветер-побочень, в борт судна. Ну, вот — плыть можно. Тихо, но можно.
Прокофий Ильич взглянул на Павла и, увидев, как тот широко открыл глаза, отрицательно покачал головой:
— Нет, она — Таня — добрая душа и славная хозяйка. Почти всю жизнь в одиночку ведет многотрудное хозяйство семьи: кухня, стирка, дети, множество надоедливых, не видных мужику мелочей быта. Мне не в чем ее упрекнуть.