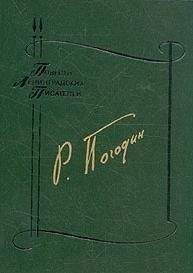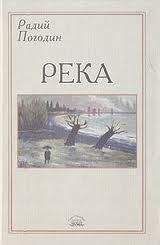Радий Погодин - Я догоню вас на небесах (сборник)
И вот я понимаю, что мне на ноги кто-то садится, как на свое…
Я тоже сел, автомат наготове. Писатель Пе из перины торчит, готовый чуть что стрелять. А у меня на ногах женщина. По силуэту — пожилая. Это ее кровать. Она на ней ребят своих зачала, и, наверно, воюют ее ребята где-то незнамо где — тоже солдаты. А может быть, уже не воюют. Наверно, она пришла взять что-то из тумбочки.
Писатель Пе говорит ей:
— Пардон, мадам. Извините, пожалуйста.
«Пардон, мадам» — понимают все.
Руки ее взлетают к лицу и вперед, словно она хочет нас оттолкнуть. Еще бы! Город ожидал русских. Откуда угодно. На чем угодно — на ослах, на верблюдах. Но не из ее любимой старинной кровати. И она рухнула. Без крика, без стона.
Мы поправили перины, положили женщину на кровать, рассчитывая, что, очнувшись, она примет все за мгновенный кошмарный сон, за причуду уставших от страха нервов.
До утра дремали мы в пустой пивной при въезде в город. Ее хозяин предусмотрительно оставил двери незапертыми, чтобы русские их не сорвали с петель.
— Пе, — говорил я, — если бы ты свое «извините, пожалуйста» не произнес, может, она и не рухнула бы. «Извините, пожалуйста» несовместимо с войной. Лучше бы ты «хенде хох!» крикнул. Старуха потеряла сознание не от страха — от абсурдности ситуации.
В другой раз, ночуя в еще не занятом нами немецком городке, мы положили под подушку будильник — танки должны были пойти в шесть.
Когда будильник зазвенел и мы, моргая, уселись в перинах, в комнате было темно и холодно. Трое фольксштурмовцев устраивались у окна с фаустами и пулеметом. Они только что вошли. И мы, в общем-то, не смогли бы сказать с уверенностью, что разбудило нас, их приход или будильник. Наверно, будильник треском своим перекрыл пробудившее нас чувство опасности.
Все дальнейшее зависело от квалификации. Мы хоть и спали, но в ритме войны. Фольксштурмовцы, озябшие от безнадежности, засуетились. Винтовки они поставили к стене, и каждый пожелал взять непременно свою.
Лица их были серо-зелеными, как их эрзац-мыло.
Уходя, мы долго ополаскивали лицо и руки. Вытирались чистыми махровыми полотенцами, пахнущими лавандой. И, надев шинели, застегнули их на все крючки.
В небе солнце белого золота. Каждый лист в парке узорчат. Лужайки свежи. И вдоль дорожек мраморные девы с нежными припухлостями — в ожидании Пигмалиона.
Бронетранспортер, ощеренный стволами, подкатил, наконец, обратно, к дворцу Сан-Суси.
Дворец был удивителен своей пустотой — отмытый солнцем от наростов живописи, гобеленов и портьер. Нам захотелось пройти по нему еще раз, уже не торопясь.
У дверей стоял ефрейтор в новенькой зеленой фуражке с новехонькой самозарядной винтовкой Токарева. К стволу примкнут штык-кинжал. Рожа у ефрейтора наглая, стоечка хозяйская, как у осодмиловца на танцплощадке.
— Вот это хват, — сказал упрямо-медленный Егор. Перевалился через борт и подошел к ефрейтору. Тот штык перед собой выставил. И так это невежливо Егору:
— Назад!
— Сразу и назад. Мы — победители, желаем дворец осмотреть. Ты глянь-ка, глянь, какое небо — это же куст сирени, его господь нюхает.
— Сказано, назад! Капитана позову. Вы уже осматривали.
— Осматривали один раз. А ты, значит, за нами потихоньку по-за кусточками. На полусогнутых воюешь? Сохраняешь себя для крематория?
— Иди — стрелять буду!
— Стрельнешь — они тебя в эту дверь вколотят по крошечкам, по атомам, — Егор кивнул на нас. — Похоже, тебя мама от злости родила.
Ефрейтор сглотнул, прижался спиной к дверям, он понимал, что превысь он какой-то допустимый в его положении уровень хамства — и его действительно в дверь вколотят. А вот Егор не понимал, — что же такое случилось? Почему этот ефрейтор перед ним не трепещет? Не восторгается? Не предлагает закурить? Не чтит?
— А по соплям? — сказал ефрейтору Егор.
— Под трибунал пойдешь.
— Да там же ничего нет, во дворце! Что ты охраняешь, ублюдок?
— Под трибунал пойдешь, — повторил ефрейтор, в голосе его уже вызревал визг. Сейчас он выстрелит. Не в Егора — в воздух. Прибежит начальник караула. Мы, конечно, уедем. Но не хотелось. Нам было обидно.
Мы, конечно, были герои. Мы даже понимали что-то, хотя у героев с пониманием туго, — чувствовали, что у такого вот ефрейтора мы, кроме злобы, других чувств не вызываем, что этого кота войны, такого гладкого от сала, сливок, девок, подкармливают и дрессируют на нас, как на мышей, а мы стоим под подозрением, под приказом об усилении дисциплины в армии вплоть до расстрела. Мы уже были лишними на войне. Какая там разведка? Зачем? Рвущийся к победному майскому дню фронт с маршалами, генералами, героями уже накрывала волна тылов — специалистов, экономистов, искусствоведов, прокуроров, комендантов и конвойных рот.
Егор психанул вдруг:
— Пустоту охраняешь, сука! А если я вот этой мраморной Диане да по титькам?
— Валяй, — ефрейтор осмелел снова, заблестел рожей. — Я двери охраняю во дворец. А статуи хоть разнеси. Мне они тьфу. Вы их катком. Во захрустят.
У бронетранспортера перед радиатором каток, чтобы можно было столкнуть и смять что-то, мешающее на пути.
Егор пистолет выхватил из-за пазухи.
— Нас сюда посылали, чтобы мы тут ни-ни, не зашибли, не повредили. Искусство! Не дай бог! А ты, гниль. Дерьмо собачье. — Егор навел пистолет на мраморную деву. — Я ее, курву Афродиту. Я, значит, воюю, а эти суки по кусточкам — и медаль.
Я выкатился из машины, прыгнул Егору на спину. Он долбанул меня локтем в солнечное сплетение так, что я скорчился под кустом барбариса. Ребята, показалось мне, были на стороне Егора, даже будущий писатель Пе, интеллигент паршивый.
— Не будь свиньей, — сказал я Егору, икая и пуская слюну, он разбил мне живот, как пустой грецкий орех. — Другие тоже хотят.
— Чего хотят?
— Стрельнуть в нимфу.
— Пускай стреляют. Вон их тут сколько. Курвы.
Шофер Саша помог мне встать. Посетовал, что статуя не бронзовая, на бронзовой дырки можно было бы зачеканить.
Из машины выпрыгнуло все отделение. Парни называли места, в которые желательно было попасть с точностью до миллиметра.
— Они не спрашивали, когда Петергоф жгли. Может, нам тут и нос выколотить нельзя?
Ствол пистолета шарил по мраморному телу Девы. Егор выискивал местечко, куда вогнать пулю.
Наверно, в такие минуты что-то происходит в природе: облака стали темными, небо выцвело, парк с ровно постриженными кустами определился в перспективе, он собирался в одну точку там, за спиной Девы, и в этой точке должен был возникнуть Трактор — бешеная машина. Она бы ворвалась в парк, в тишину, где тяжело дышали мы и, затаив дыхание, стояли мраморные Артемиды. Вон как их много за свежей зеленью постриженных кустов. Торчат их головы. Их руки. Их пальцы почти прозрачные. Их груди — они вмещаются в ладонь… Трактор все сокрушит. Раздавит. Перемолотит. Бешеная машина. Мы были Трактором.
Раздался крик:
— В писю-ю! Бей в писю-ю!..
Кричал ефрейтор. Он пританцовывал у двери. Лицо его блестело от пота, губы были вывернуты. Он шевелил пальцами, похожими на окурки.
Егор прыгнул к нему, выбил у него из рук винтовку ногой, сорвал с головы новенькую зеленую фуражку и фуражкой той, захватив ее изнутри двумя пальцами, с наслаждением защемил ефрейтору нос. Пальцы у Егора были железными. Когда он их разжал, шкуры на ефрейторском носу не было. Из глаз текли слезы, и слова вымолвить он не мог. Егор поднял его винтовку и зашвырнул в кусты.
Уже в машине, когда мы отъехали, Егор сказал мне: «Извини, сержант». Он был постарше нас и за свою холодную отвагу пользовался особым уважением. Он никогда не срывался — психануть мог любой, но не он, — он был спокойно-ленив. Но ефрейтор обжег его душу.
— Вот кусок, — бормотал он. — Вот ведь прыщ на сгибе. И главное, такие прыщи над вами, ребята, будут стоять.
— А над тобой?
— Я на Север подамся.
От дворца послышался выстрел. Это ефрейтор, достав свою самозарядную винтовку из кустов, вызвал начальника караула.
Но мы не прибавили скорости, мы не убегали, мы ехали себе по песочку гордо и несколько расслабленно.
У распахнутых чугунных ворот, ведущих в город, на зеленую безлюдную улицу, стоял кирпичный каретник. К стене его были прислонены высокие плоские ящики. Тут же штабелем лежали доски. И кучи стружек, не столярных, но чистых и ровных — лентообразных.
— Картины, — сказал я, не веря этому слову. Чувство, заполнившее мою душу, было бессилием вынырнувшего из глубокой гиблой воды: эта барабанная дробь сердца, эта флейта отрикошетившего снаряда — это осознание кровью того, что ты жив и удачлив.
Здесь: голубые облака, скирды свежих тополиных листьев над головой — деревья у сарая не стрижены, пряная тень и цветущие темные травы.
Там: парк Сан-Суси — высвеченные солнцем розовые дорожки, широкие и прямые, дворец, акварельно раскрашенный и пустой, как новенький детский садик.