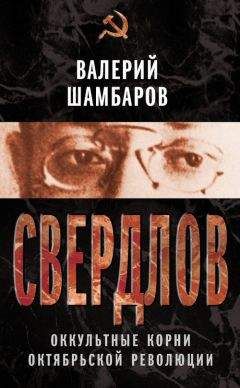Михаил Алексеев (Брыздников) - Девятьсот семнадцатый
— Проклятые… прок… предатели… ооо-х! За что столько смертей?
Силы мгновенно оставили его. Он, покачнувшись, упал на каменистый скат холма, и, если бы не вестовой, задержавший его ногами на месте, тело поручика скатилось бы на версту вниз в лощину.
Подбежал унтер-офицер Нефедов. Посмотрел на раненого. Вынул из его рук судорожно зажатую бумажку. Прочитал ее. Нахмурился и крикнул приказ об отступлении.
В то же время Айрапет Шахбазов, ожесточенно добивавший раненого турецкого офицера, тихо вскрикнул и сел на землю, размахивая руками. Это заметил солдат Хомутов. Он стоял неподалеку, вытирая полой шинели покрытый кровью штык своей винтовки. Посмотрев на раненого товарища, он покачал головой и сказал соседям.
— Вон, ребята, арабку пристукнули. Давайте подберем.
Взвод отступил.
* * *Соловей, соловей — пташечка,
Канареечка жалобно поет.
Раз-э два-э, горе не беда,
Канареечка жалобно поет.
— Ротта-а, стой!
И песня и топот ног сразу умолкли. Одна темная фигура подбежала к другой и, козырнув, спросила:
— Привал, ваше благородие? Прикажете разбить палатки?
— Да. Только смотри, Нефедов. Потолкуй с ребятами, винтовки осмотри. Наша рота первой должна быть в Эруме.
— Слушаю-с, ваше…
— А где штаб, Нефедов?
— Вон, ваше благородие… Налево палатка, с флагом.
— Ну, я пошел к командиру полка. Устраивайся тут. Через час ко мне зайдешь.
— Слушаю-с. А как же раненых?
— Кто ранен?
— Их благородие поручик Соколов.
— И еще кто?
— И еще семнадцать нижних чинов, ваше благородие.
— Где они?
— В обозе, ваше…
— Ну, ничего. До завтра потерпят, а завтра после взятия Эрума с другими ранеными эвакуируются.
— Слушаю-с.
Скоро на снежной, но уже местами грязной поляне, окруженной со всех сторон цепями гор, выросло несколько сот светлых грибов — палаток.
Люди, которые до того заполняли долину от края в край, вдруг исчезли.
Все притихло и замерло. Уже совсем потемнело вокруг. Только высь небес продолжала сиять и светиться. По синему туманному небу, точно струи громадного фонтана, растекались сиреневые облака. У горизонта кое-где еще краснели полоски зари.
В палатку вместилось столько народу, что не продохнуть. Местами солдаты сидели, лежали друг на друге. Для того чтобы выбраться из палатки, приходилось шагать по живым человеческим телам. Те, кто пытался это делать, получали вдогонку невыразимую ругань и навсегда лишались теплого места.
Нестерпимый чад махорочного дыма, вонь прелого, грязного белья, сопенье, оханье густо плавали в тяжелом, как чугун, воздухе.
В углу палатки, на грязной земле, лежали вповалку солдаты первого отделения. Солдат Гончаренко, стиснутый со всех сторон, громким голосом ругал соседей:
— Хлебалов, чорт… ногу отдавил. Посунься, а то я посуну…
— Да я что ж? Некуда, Гончаренко. И рад бы…
— Рад бы! Эх, жизнь проклятая!
— Не жизнь, а жестянка, — поддержал его другой голос.
— Вошь ест поедом. А тут еще блоха турецкая — кусачая, стерва. В грязи как свиньи спим. А за что — ну, за что муки мы принимаем?
— Да.
Эти рассуждения сопровождал целый десяток протяжных вздохов. А кто-то из другого угла палатки со злобой крикнул:
— Ишь, заныл, сукин сын… Молчи уж, без тебя тошно!
В ответ тот, к кому относились эти слова, смачно и длинно выругался. Кое-кто засмеялся.
— Эх-ох!
— Щеткин, а Щеткин! — раздалось из третьего угла.
— Ну, чего?
— Расскажи, Щеткин, сказку.
— Ну тебя.
— Да расскажи, — заговорили сразу три голоса.
— Сказку! — проскрипел сквозь зубы тот, к кому обращались с просьбой. — Изволь: сказка за-ласка, залезла на лавку, хвостик задрала…
— Брось, Щеткин, дурака не валяй. Говори, а то я расскажу, — прокричал громкий бас.
— Я тебя не валяю, — последовал ответ. — Ну, и рассказывай. Мне-то что? Мне все равно. Начать-то ты начнешь, а не кончишь. Язык у тебя не к тому месту пришит.
— Брось. Щеткин. Говори. Послухаем.
— Ну, так и быть. Я вам, братцы, уж и расскажу сказку про попа, про сову-летунью, про старую колдунью, про дурака-Ивана, что…
В напряженной тишине монотонно раздавался желчный голос Щеткина. Его внимательно слушали. Курили да временами с руготней посмеивались.
А возле рассказчика, близко пригнувшись один к другому, перешептывались двое солдат.
— Ну, разве мы люди? — шептал один голос. — Скоты мы, гниль какая-то.
— А ты бы, мил друг Сергеев, к офицерам шел. Все у них лучше. Народ тоже благородный. Это нам, мужикам, не привыкать стать. А ты и сам офицером скоро будешь. Шел бы к ним.
— Эх, Хомутов, друг! Не мило мне все это. Ни то я, ни се. Ведь выгоняют, когда им между собой поговорить нужно.
— А ты не гордись, Сергеев. Не офицер же пока.
— Да, трудно мне. Придешь, а они выгонят.
— Ну уж и выгонят. Тоже скажешь! А теперь у них занятно: тепло, сухо. Халуи те, денщики, жарево и варево наготовили. Питья и яствия всякие. Вот жисть! Эх, малина!
— Друг, Хомутов! Ведь разврат у них один — и только. Разве же я не знаю? Понапиваются, а в обозе уж проститутки ждут. И пойдет! Грязь. А меня заставляют петь. А там, где рояль есть, как в Кале, то играть заставляют. А сами блеют.
— Ну-к что ж, Сергеев? Баба офицерам на потеху дадена Тоже трудов у них много Ну, как не потешить сердечки-то? И благородные они к тому же. Все из дворян, небось?
— Эх ты, невозмутимый! Ведь грязно, гнусно все это. Только развратничать они и умеют. Был между ними один порядочный, да и того ранили. Вряд ли выживет.
— Это что ж, их благородие взводный наш… Соколов?
— Да. Душа-человек. Себя не щадил за родину. Я около был, когда ему пакет принесли с приказом отступать. Так он, уже раненый, с какой досадой обругал их! Предатели, кричит, изменники. А потом уже память потерял.
— Обидно, известно. Айран бы заняли. Как пить дать, заняли. Турки-то уже насандалили пятки. Да, может быть, нужно так отступать? А?
— И откуда, Хомутов, у тебя все такое?.. Все прощаешь. И все вы такие. Головы ложите, в грязи по уши, вошь, блоха, а нет недовольства.
— Дисциплина, друг. Эх, тяжелые слова говоришь, — горячим шопотом произнес Хомутов. Он весь придвинулся к собеседнику и, тяжело дыша, продолжал: — Все понимаем мы, сами видим — да дисциплина. Недовольны тоже были мы и не раз. А что толку? Плетью обуха не перешибешь. Вон в запасном полку были храбрецы, не такие, как ты, — да что толку-то? Говорили справедливые слова против начальства, а мы за ними. Эх, милай! Да что тут говорить! Их-то; военным полевым судом голубчиков в двадцать четыре часа на тот свет без пересадки. А нас — кого в тюрьму, а кого в дисциплинарку. Хуже каторги… А ты говоришь…
— Да я не об этом.
— Не об этом, так о чем же? И говорить-то о другом нечего. Тоже. Покушал горькой жизни немножко, а уже ропщешь. Произведут в офицеры — все забудешь. А мы-то роптали. И в деревне роптали, да исправниковы плети — как не замолчишь?.. Вот что. Волость целую пороли…
Хомутов помолчал и затем вполголоса добавил:
— Будет время — поропщем.
— Да я не о том.
— Не о том, так и нечего сердце растравлять. Один грех с тобой. Наговоришь, а потом каяться будешь.
Собеседники замолчали.
А голос Щеткина продолжал под ругань и смех своим уже звенящим, изливающим желчь голосом:
— А сова не будь глупа: цап за бабу, цап за мужика!
— Ха-ха-ха-ха! — смеялись несколько голосов. — Ну, ну, Щеткин, валяй!
Сергеев, задумавшись, вдруг услышал возле себя гневный шопот Хомутова.
— Аксенов… Ты что это, едят тя мухи с комарами! Ты что, подлец, делаешь?
В ответ послышался судорожный шопот, прерывающийся всхлипываниями:
— Я-а-а-а… Аксинья привиделась…
— Дурак ты, Аксенов, — укоризненно шептал Хомутов. — Погоди, война кончится, ну и натешишься.
Сергеев поднялся, не обращая внимания на ругань, пинки, прямо по солдатским телам быстро зашагал к выходу из палатки.
— И там мерзко и здесь грязно, — шептал он про себя. — Все же пойду в штаб. Там как-никак чище.
* * *В просторной палатке командира полка, ярко озаренной светом двух керосиновых ламп, на пушистом турецком ковре, постланном на посыпанную желтым песком землю, расселся весь командный состав полка. Офицеры сидели на ковре по-турецки, поджав под себя ноги, а кое-кто и на корточках. В живом, тесном кругу, на больших досках, покрытых двумя простынями, стояли бутылки с коньяком, спиртом, на тарелках лежали куски жареной баранины, консервы, кружки, стаканы, хлеб.
Всего находилось здесь двадцать два человека.
Против отверстия палатки, заменявшего двери, на груде подушек сидел сам командир полка, полковник Филимонов. Его обрюзглое лицо не выражало ничего, кроме опьянения. Нос красной сливой, глаза в мешках говорили о его прошлой, бурно прожитой жизни. По правую руку от него примостился начальник штаба капитан Кобылкин, полнокровный, толстолицый офицер. Он, казалось, сидя спал. А по правую руку от полковника присел на корточках адъютант полка Ястребов, поручик, с хищным выражением смуглого лица. Офицеры пили, не спеша закусывали и слушали Ястребова, без умолку сыпавшего фейерверком анекдотов. Когда Сергеев поднял полу палатки, то услышал конец последнего анекдота.