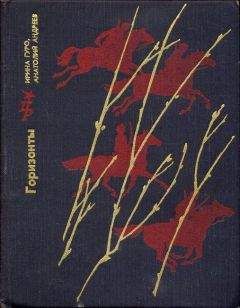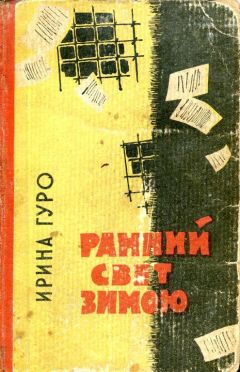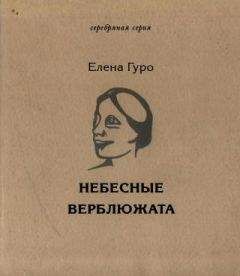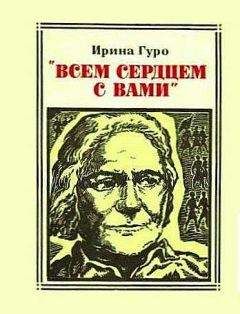Ирина Гуро - Песочные часы
Разумеется, я не вступал в дискуссии. Мне следовало помалкивать, наблюдения оставлять при себе и помнить одно: я еду навестить бабушку. Надо пожить у нее три недели и вести себя, как положено внуку, приехавшему в гости.
За это время я должен точно и осторожно выяснить, живут ли по старым адресам три человека: один из них — в небольшом городишке, двое — в Берлине. Эти адреса я заучил так твердо, как не заучивал ни один урок. А то, что это были партийные функционеры и таким образом я приобщался, хотя в самой скромной степени, к делу своих родителей, — это меня подымало в собственных глазах.
В том, что мне предстояло, не было ничего особенного. Только я мог это сделать. Не только мог, но и должен был. Все лучшие люди, которых я знал, боролись с фашизмом. Даже дядя Стефан — социал-демократ, с которым мой отец когда-то спорил до хрипоты — я это хорошо помню, — даже дядя Стефан сейчас в подполье…
В сознании важности своей задачи я снисходительно слушал моего случайного собеседника: интересно, что же должны «мы, немцы»…
Оказалось, речь идет о малости: вся суть в утиле. Да, отношение к утильсырью определяет степень культуры и государственную зрелость народа…
Господин Фонже говорил так долго и убедительно, распространялся столь подробно, что мне почудился запах отбросов среди кухонных ароматов и сигарного дыма, заполнившего вагон-ресторан. В конце концов я поблагодарил его за поучительную и чрезвычайно ценную для меня беседу и получил визитную карточку Фридриха Фонже — владельца фабрики по переработке утиля в Вюрцберге.
На следующий день, проехав по оккупированной Польше, мы пересекли границу рейха. Ничего особенного, указывающего на то, что мы уже в Германии, в фашистской Германии, едем по ее земле, собственно, не было. Впрочем, какие-то маленькие, совсем незначительные черточки, как бы пятнышки, обозначились…
В сумерки поезд остановился на какой-то станции, и я решил пройтись по перрону. Начало июня — тут уже полное лето. Маленький павильон вокзала утопал в кустах жасмина, он еще не зацвел, но какое-то предчувствие его аромата носилось в воздухе. Где-то крутили хорошо мне знакомую пластинку, танго «Ночь в Монте-Карло». Наверное, где-то далеко: мелодия то и дело исчезала, но я мысленно восстанавливал ее, заполняя провалы.
По перрону гуляли парочки, вышедшие «к поезду», как это принято в провинции. Фонари светили еле-еле-, по военному времени, но все же видны были все нашивки, нарукавные повязки и значки, нацепленные на молодых людях. На всех имелась свастика, и я подумал, что буду три недели жить под этим знаком, и тут уж ничего не поделаешь.
Мне, правда, трудно было представить себе, что до бабушкиной деревни дотянулся настырный знак. Воспоминания детства сохранили образ укромного уголка, заросшего ольхой, с полянами вереска и остролиста, с уютом старых домиков под красными и серыми черепичными крышами, с бытом идиллическим и мирным, где, казалось бы, нет места страстям, бушующим под исковерканным крестом.
Юноши, украшенные значками, в полувоенных костюмах, шли, осторожно поддерживая под локоть голенастых девиц в платьях, которые у нас назывались «татьянками». Невольно я ловил обрывки разговоров, отмечая, что мой родной язык приобрел здесь какой-то новый оттенок. Это не был тот немецкий язык, на котором говорили мои отец и мать и их друзья. Знакомые слова произносились как-то по-другому. И я подумал, что должен это освоить.
А то, что надо избегать иностранных слов, особенно французских, — ни в коем случае не говорить «аэродром», «аэропорт», а только «флюхафен», — это я знал.
Потом, в деревне, я уже ничем не выделялся. И вообще там все пошло хорошо, именно так, как предполагалось. Как предполагалось в тот день, когда мы втроем: отец, мать и я — сидели в моей комнате. Мама — у окна, на ней было синее платье, а сверху — шаль, в которую она куталась, словно ей было холодно…
Нет, нет, не надо — с самого начала, с того берега, где все первоначально задумывалось. Тот берег лежал в такой недоступной дальней дали, весь окутанный такой счастливой дымкой, что невыносимо его вспоминать. И надо начинать с первого дня катастрофы…
Да, с того утра, когда на деревенской улице среди жаркого июньского утра как будто проструился ледяной ветерок. Это он принес крик. Кричал кто-то во всю силу здоровенных легких. Выкрикивал слова, значение которых только потом дошло до сознания. В ту же минуту они воспринялись как смутная угроза, как весть о несчастье, которому еще нет названия.
Но оно уже было тут. Его уже вдуло вместе с взлетевшими от порыва ветра занавесками в дом. И уже здесь, в доме, слова, продолжавшие, отдаляясь, звучать на улице, выкристаллизовались, упали камнем. Все как будто сдвинулось с мест в комнате, воздух стал горячим и густым, почти объемным. Кричавший был уже в конце улицы, а крик остался здесь. Остались слова: «Выходите из домов! Война! Война с русскими!»
И тотчас, прямо-таки тотчас, как будто там сидели и специально дожидались, на углу, в трактире «Золотой шар», запели «Стражу на Рейне». Мужские голоса пели слаженно и с таким воодушевлением, словно от этого зависела немедленная победа рейха. Не успел погаснуть последний отзвук песни, как послышались разноголосые выкрики: «Хайль фюрер!», «Хайль победа скорая и окончательная!»
Я увидел в окно, как люди выбегают на улицу целыми семьями, как будто боясь потерять друг друга. Из дома напротив выскочила вдова портного Баумгартена. Своего младшего она схватила в охапку и, наверное, так сжала его, что он отчаянно заорал. Двое старших жались к ногам матери.
Вдруг я перестал их видеть, потому что вокруг них выросла толпа женщин, среди которых я заметил знакомые фигуры, но почему-то никого не узнавал: так чуждо было выражение лиц. Нет, не ужас, не растерянность выражали они, как можно было бы ожидать, а скорее — обреченность. «Так, так. А что дальше? И что нам делать?» Это было написано на лицах: «Что нам делать?» Они привыкли: им всегда указывают, что надо делать. Так неужели сейчас не раздастся знакомый скрипучий голос колченогого Всезнайки, который все расставит по местам, а главное, скажет, что делать.
Мужчины обтекали плотно сбившуюся толпу женщин: они спешили в «Золотой шар», где уже умолкло пение и один только необыкновенно напористый голос произносил речь, короткие фразы с ударением на последних словах. Я не разбирал слов, но даже не по голосу, а по темпу и интонации узнал оратора: парикмахера Шаукольца, местного «политикера». Вероятно, он держал речь перед собравшимися в садике у трактира.
Подул ли ветер с той стороны, или слух мой обострился, но я стал улавливать отдельные слова и даже фразы. Вопли парикмахера составляли как бы фон, а на нем раздавались отрывочные реплики женщин, сгрудившихся на улице против нашего дома.
«Немецкий народ… высоко неся светоч… фюрер… отпор варварам, грозящим… весь мир… Немецкий дух… Нибелунги…» — надрывался Шаукольц.
«Конечно, это будет не такая война, как та»… «А кто знает?»… «Они твердят, что все быстро кончится»… «Наверное, они знают»… «Иначе русские сами напали бы на нас»… «Они далеко»… «Теперь же есть самолеты, они летают быстро»… «Лишь бы не было голода». — «И безработицы»… — это хор женщин.
Из «Золотого шара» неслось: «…удар, подобный молнии… фюрер… позор Версаля… оздоровление нации… арийский дух…»
С улицы напротив: «…да я о детях»… «мужчины как с ума сошли»… «Маргарита так и упала»… «Там большие урожаи»… «Кто знает! Чего ж не верить? — я верю, только»… «Они твердят, что все быстро кончится…»
Эти два хора отличались не только по содержанию реплик, но по тональности: «Золотой шар» лопался от пафоса и гордости; улица источала опасения, неуверенность, робкую надежду.
Я впитывал то и другое, все, что доходило до меня, до моего окна во втором этаже, прямо над вывеской булочной «Золотой крендель», — все здесь было золотым или хотя бы позолоченным.
Я вслушивался в двойной хор и даже подтянул себе под грудь красную подушечку, всегда лежавшую на подоконнике.
Вдруг мужской голос произнес отчетливо и резко слова, полоснувшие меня так, что я чуть не вскрикнул: «Ночью бомбили Могилев, Львов, Гродно…» Могилев он выговорил с ударением на первом слоге, так что я понял, о чем идет речь, только услыхав дальше: «Львов, Гродно…» Я тотчас увидел говорившего: это был сапожник Дитмар из дома напротив. Тут же к нему подбежал его внук, он громко плакал и кричал, что гитлерюнги бегают по крышам и стреляют голубей…
— Скажи, чтоб моих не стреляли! — заходился плачем мальчик.
Дед закричал на него, мальчик заорал пуще…
И все сливалось для меня в какой-то неистребимый, бесконечный гул, на фоне которого слова: «Могилев, Львов, Гродно…» — убийственно четко повторялись десятки раз.