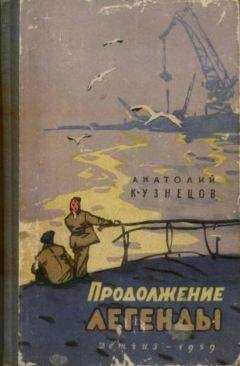Анатолий Кузнецов - Селенга
— Ви-ра-а!
— Эй, вали с ходу две! — перегнувшись над опалубкой, махал издали мастер. — Вали вторую, Тонька!
Тоня засуетилась:
— Шофер, подъезжай, вали! Давай!
Илья Лукич послушно, как сонный, подогнал машину, опрокинул кузов, но бетон все-таки слежался и не вывалился, а повис густым тестом над бадьей.
Тоня ахнула.
Тогда старик взял лопату и полез наверх.
— Да не надо, я сама… Шофер… ой, как вас звать, дяденька? Илья Лукич? Давайте я, дяденька Илья Лукич!
— Ничего, племянница, — пробурчал Илья Лукич. — Ты всю ночь работала. А я вот замерз. Да, замерз старик…
Проклятое сердце его опять закололо, а он выпрямлялся, глубоко вдыхал — и долбил, долбил, пока не выгреб весь бетон.
Стараясь не подать виду, что он задыхается, Илья Лукич спокойно сел в кабину, отметил в путевке ходку и медленно тронул по мокрому и чистому, словно вымытому старательной хозяйкой, настилу.
Он думал, что Тоня ничего не заметила. А она, оставшись одна у крана, растерянно держала лопату и долго смотрела вслед старенькому грузовичку.
МАША
Воронов работал первую неделю и друзьями еще не обзавелся. Он жил в доме молодых специалистов в одной комнате с женатым инженером Илюшей Вагнером.
В этой комнате с полосатыми обоями кроме двух коек имелись стул, стол, графин, в углу — куча носков и чертежей.
Окно выходило прямо на строительную площадку; по ночам грохот бульдозеров в котлованах не давал инженерам спать; дрожали кровати, и отблески фар метались по потолку.
Илюша Вагнер ожидал квартиру, чтобы выписать жену. А пока приколол на голую стену фотографию весело хохочущей толстушки; валяясь на кровати, смотрел на нее сквозь рыжие очки с очень сильными стеклами и дымил, как паровоз.
Он был тощ, нескладно длинен, с поповски долгими выгоревшими волосами, умел часами молчать, полистывая справочник арматуры.
Первые дни Воронов пытался с ним беседовать, рассказывал какой-нибудь забавный случай. Илюша Вагнер внимательно, дружелюбно слушал, трогательно хлопал веками за сильными стеклами очков и изредка тихо произносил:
— Да… да… удивительно… да!
Илюша был симпатичен Воронову своей беспомощной непрактичностью; казалось, он был безобиден, как ребенок. Но все же Воронов заскучал. Вечера в этом раскинутом на голом месте таборе, где не имелось даже клуба, проходили томительно.
Наконец прибыл контейнер с мотоциклом.
Воронов втащил вонючую машину в общий коридор, два вечера протирал и смазывал разложенные на газетах части, наполнив бензиновым запахом весь дом, а на третий вечер укатил и вернулся за полночь.
Он рассказал Илюше Вагнеру, что был в степи, заезжал в Старый Оскол и другие разбросанные вокруг строительства села, где живут рабочие, и там у них весело, есть танцы, бывает кино; а степь полна полыни и валунов, дороги же плохие.
Днем оба работали начальниками небольших смежных участков. Забот хватало; все только разворачивалось. Утром со всех сторон горизонта ползли из сел фургоны-грузовики, из них высаживались толпы каменщиков, бетонщиков, арматурщиков, заполняли котлованы, строили фундаменты. В подмогу столовой дымились полевые кухни; цистерна развозила по участкам воду. Штабеля досок, железо и разрытая земля. Лишь к вечеру, когда вся эта шумная и беспокойная орда сворачивалась и уезжала в фургонах, становилось относительно пусто и только стрекотали бульдозеры.
Может, степные звезды или наплывавшие волнами душные запахи, а скорее всего молодость не давали Воронову покоя по вечерам. Какая-то томительная грусть, неопределенные мысли заполняли его. Он заводил мотоцикл и звал Вагнера.
Но тому вечно нужно было просмотреть на завтра проекты или исправить график. Воронов полагал, что нужно уметь за день выполнить всю работу, а вечером отдыхать. Он махал рукой и уезжал в Старый Оскол. Там он сидел, покуривая, на шумной танцплощадке, толковал с рабочими о прогрессивке, о нарядах, изредка плохо танцевал.
Там он познакомился с Машей.
Он всегда удивлялся, как много энергии у этих ребят. Большинство приехало по путевкам комсомола. Протрястись утром двадцать километров в фургоне на стройку, двадцать обратно после тяжелого рабочего дня — и еще танцевать до полуночи! Они сами выделяли следить за порядком дежурных, которые с позором выводили нетрезвых; в гармонистах недостатка не было, они сменялись, наигрывая без перерывов.
Было немало хорошеньких девушек, крепких, с жесткими от работы ладонями и сильными загорелыми ногами.
Склонный поэстетствовать, Воронов от нечего делать сравнивал их, придирчиво критиковал, отыскивая самую красивую. И нашел ее.
Она приходила танцевать не каждый вечер, но зато уж могла кружиться хоть три часа в каком-то радостном упоении. Воронов посмеивался про себя: для него танцы были всегда пустячным развлечением, но все же, когда ее не было, чувствовал досаду, сам того не понимая, ждал ее. Она сразу выделялась среди других, выделялась походкой, манерой танцевать с какой-то неуловимой, одной ей присущей грацией. Она была очень тоненькая, как бы совсем еще девочка, слишком нежная, с темными небрежно причесанными волосами, приятным молочно-белым лобиком; у нее были красивые карие глаза и нежные детские губы. Парни приглашали ее наперебой.
Воронов смотрел-смотрел, не удержался и тоже пригласил.
То, что с ней танцует инженер, ей польстило; от волнения она стала спотыкаться, хотя обычно это был удел малоискусного Воронова. Она не смотрела на него, а когда он заговорил, робко и почтительно отвечала «да», «нет».
И только тогда он с изумлением узнал, что она работает на его же собственном участке подсобницей у каменщиков и хорошо его знает, и он сам, должно быть, много раз видел ее в перепачканном комбинезоне на лесах, но не обращал внимания…
Они вышли из круга. Воронов предложил сесть, и она покорно согласилась. Они сели на бревнах. Парни, стесняясь подойти, перестали ее приглашать. А Воронову уже не хотелось танцевать, он удивленно, жадно смотрел на ее лицо, на ее губы, лоб, на худенькие, выступающее из разреза платья ключицы. Волосы ее пахли «Белой ночью», духами, которые выливал на платок и сам Воронов в лучшие времена.
Она сказала, что зовут ее Машей; она приехала с Черного моря, из Адлера, приехала в первые же дни по путевке, оставив мать и бросив школу. Здесь учится на каменщицу. Где живет? С девушками, целой коммуной, в избе на том конце села. Почему не каждый день на танцах? Шьет вечерами. Да, она умеет, научилась у мамы, а здесь девчонки не отстают, она подрабатывает и посылает домой, потому что там осталось еще четверо карапузов.
«Черт знает что… Каменщица!.. — подумал Воронов, с сомнением глядя на ее худенькие руки. — Разрешают же детям идти в каменщики!..» А вслух назидательно оказал:
— Надо учиться дальше.
— Да… — согласилась она.
Он уловил в голосе оттенок грусти и спросил, почему же она не учится.
Этой зимой очень уставала, не потянула бы, а сейчас подала заявление, осенью пойдет, но боится. Чего? Да трудно же. Устает на работе, а тут еще шитье отнимает время.
— Но на танцы находится время? — улыбнулся Воронов.
— Ну, танцы — это отдых, — серьезно возразила она. — Ничего, я сильная. Вот если бы тратила все только на себя… Вот скоро уж брат встанет на ноги, тогда вовсю буду учиться… Если бы вы только знали, как хочется порой!..
— Очень хочется?
— Да.
Воронов подумал, что следовало бы ее перевести на работу с бо́льшим окладом, что ли, или помочь по линии профсоюза, и вообще почувствовал теплое к ней уважение.
Он украдкой оглядел ее платье, соображая, что оно, должно быть, сшито своими руками, и нашел в его покрое неплохой вкус. Ему нравилось в ней все.
Но он был старше ее лет на семь-восемь и не мог забыть об этом, говорил с ней несколько наставительно и подбирал выражения попроще.
Ночь выдалась на диво: теплая, полная степных запахов. Воронов стал увлеченно рассказывать Маше о вычитанных в «Технике — молодежи» последних проектах звездолетов, потом о комбинате, о том, как будет выглядеть новый город.
Маша слушала с глубоким уважением. Сама охотно рассказала какую-то длинную, возмутительную историю со сплетнями вокруг комсомольского барака, существа которой Воронов так и не понял.
Но он и не старался понимать. У него немного кружилась голова, вздрагивало в груди, он изумленными глазами смотрел на Машу, пошел провожать ее. Они долго шли в темноте, он держал ее худенькую теплую руку, а у дома вдруг повернул к себе лицом — она тихо вскрикнула — и стал целовать прохладные детские губы. Она безвольно поддавалась, побледневшая, закрыв глаза.
Утром Илюша Вагнер едва разбудил своего соседа. Проснувшись, Воронов вскочил и, еще сонный, бросился к окну. Прибывали крытые грузовики, из них сыпались одинаковые, безликие фигурки; он пытался угадать, в котором фургоне приехала Маша, и понимал, что это невозможно.