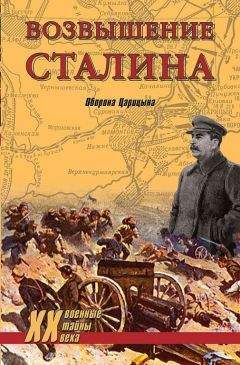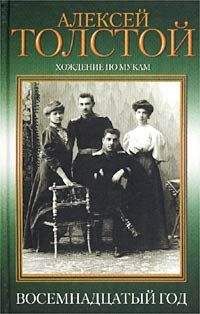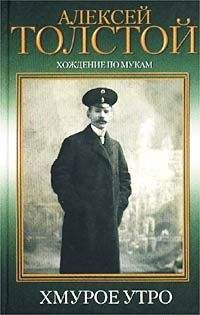Алексей Толстой - Хлеб (Оборона Царицына)
В начале февраля в Брест-Литовске, в зале заседаний мирных переговоров, появились два молодых человека в синих свитках и смушковых шапках — Любинский и Севрюк. Они предъявили немцам свои мандаты полномочных представителей Центральной рады и предложили немедленно заключить мир. Хотя вся территория самостийного украинского правительства ограничивалась теперь одним городом Житомиром, немцев это не смутило: территорию всегда можно было расширить. И немцы тайно от советской делегации подписали с Центральной радой мирный договор на вечные времена, обещав незамедлительно навести на Украине «порядок». В тот же день император Вильгельм приказал нажать круче на советскую делегацию и предъявить ультиматум.
Сереньким утром десятого февраля, когда капало с крыш одноэтажных казенных домиков и воробьи заводили на голых деревьях Брест-литовской крепости донжуанское щебетанье, советская делегация, направляясь через снежный двор в офицерское собрание заседать, узнала про ловкий ход немцев. Троцкий пошел на телеграф. По прямому проводу он сообщил Ленину об угрожающей обстановке, он спросил: «Как быть?»
В ответ на ленточке, бегущей из аппарата, отпечаталось:
«Наша точка зрения вам известна. Ленин. Сталин».
Делегаты, стоя тесной кучкой на снежном дворе, нервно курили. Талый ветер относил дым. Глядели, как Троцкий появился на крыльце почты, остановился, застегивая на горле пальто, пошел по желтой от песка дорожке. Делегаты наперебой стали спрашивать, что ответил Владимир Ильич.
Широколобое, темное лицо Троцкого, окаменев, выдержало минутную паузу, затем — прямой, как разрез, рот его разжался:
— Центральный комитет стоит на моей точке зрения. Идемте…
Сорок делегатов — Германии, Австро-Венгрии, Болгарии, Турции — собрались за зеленым столом.
Сидящий справа от статс-секретаря фон Кюльмана представитель высшего германского командования генерал Гофман (у которого наготове стояли двадцать девять дивизий) — крупный, розовый, бритый — брезгливо опускал губы. У сидящего слева от статс-секретаря австрийского министра графа Чернина дергалось тиком худое, измятое бессонницей, лицо. Жирный, черный болгарин Попов, министр юстиции, сопел, как бы с трудом переваривая речи.
Было ясно, что в эти минуты решается судьба России.* Председатель советской делегации, с волчьим лбом, татарскими усиками, черной — узким клинышком — бородкой, стоял в щегольской визитке, боком к столу, подняв плечи супрематическим жестом, — похожий на актера, загримированного под дьявола.
Упираясь надменным взглядом через стекла пенсне в германского статс-секретаря фон Кюльмана, — у которого в кармане пиджака лежала телеграмма Вильгельма об ультиматуме, — Троцкий сказал:
— Мы выходим из войны, но мы отказываемся от подписания мирного договора…
Ни мира, ни войны! Как раз то, что было нужно немцам, — эта неожиданная шулерская формула развязывала им руки. Генерал Гофман густо побагровел, откидываясь на стуле. Граф Чернин вскинул худые руки. Фон Кюльман высокомерно усмехнулся. Ни мира, ни войны! Значит — война!
Так Троцкий нарушил директиву Ленина и Сталина, совершил величайшее предательство: советская Россия, не готовая к сопротивлению, вместо мира и передышки получила немедленную войну. Россия была отдана на растерзание. Одиннадцатого советская делегация уехала в Петроград. Шестнадцатого февраля генерал Гофман объявил Совету народных комиссаров, что с двенадцати часов дня восемнадцатого февраля Германия возобновляет войну с советской Россией…
3Всю ночь мокрый снег лепил в большие окна. За приоткрытой дверью постукивал телеграфный аппарат. Ленин, поднимая голову от бумаг, спрашивал: «Ну?» За дверью отвечали негромко: «Есть». Он озабоченно шел к аппарату. Телеграфист, жмуря глаз от едкой махорки, подавал ленту. На нескончаемой узкой бумажке бежали из аппарата сведения ставки, — тревога, тревога, тревога… В германских окопах началось оживление. Повсюду задымили кухни. По ходам сообщения двигаются крупные воинские части, одетые по-походному. Появились аэропланы. Германская артиллерия приближается на расстояние прямой наводки. Прожектора ощупывают наши позиции.
Владимир Ильич читал, читал, и нос его собирался ироническими морщинками. Не оставалось никакой надежды: завтра, восемнадцатого февраля, немцы начнут наступление по всему фронту от Балтийского до Черного моря…
Вчера вечером в кабинете Ленина снова собрался Центральный комитет. С холодной логикой Ленин доказывал, что нельзя ожидать, покуда немецкая армия придет в движение, а необходимо это движение предупредить — немедленно телеграфировать в Берлин о возобновлении мирных переговоров.
Троцкий, прибывший из Брест-Литовска, запальчиво ответил, что немцы, конечно, наступать не будут и во всяком случае нужно не проявлять истерики, а выжидать с предложениями, покуда с достаточной убедительностью не проявятся все признаки агрессивности… Его шумно поддержали «левые коммунисты», — предложение Ленина не прошло.
Владимир Ильич вернулся к письменному столу. Бессонными ночами, под мрачную музыку ночного ветра, между телефонными звонками, разговорами по прямому проводу, чтением бумаг, писем, стенограмм — он обдумывал статью, где хотел сосредоточить революционное возбуждение товарищей на действительно грандиозных по замыслу, но реальных, неимоверно трудных, но достижимых задачах построения социалистического отечества.
Победу и успех революции он возлагал на творческие силы народных масс и проводил линию оптимизма через все беды, страдания и испытания. Он указывал на то, что революция уже вызвала к жизни сильный, волевой, творческий тип российского человека. Он со страстью, с провидением утверждал, что история России — история великого народа и будущее ее велико и необъятно, если это понять и захотеть, чтобы так было. «Понять, захотеть и — будет», — социализм был для него так же реален и близок, как свет рабочей лампы, падающий на лист бумаги, по которому торопливо, с брызгами чернил, бежало его перо…
Поздно ночью он заснул за столом, положив лоб на ладонь и локтем упираясь в исписанные страницы. В начале восьмого ему принесли снизу грязный от копоти чайник с морковным чаем. Владимир Ильич отхлебнул кипятку, пахнущего тряпкой. «Ну — что? — спросил глуховато веселым голосом. — Какие еще новости с фронта?»
— Скверные, — ответили из соседней комнаты, где тикал телеграфный аппарат.
В девятом часу в кабинете Ленина снова собрался Центральный комитет.
Десять человек, не снимая шапок и верхней одежды, сели перед столом. Ленин, перебирая в плохо сгибающихся озябших пальцах путающуюся бумажную ленту, начал прямо с сообщения ставки за эту ночь:
— Немцы проявляют все признаки наступления… (Голос его был глухой и злой. Был виден только его залысый лоб и путающаяся в пальцах бумажная лента.) Осталось три часа… Три часа, в которые мы еще можем спасти все… Нельзя терять ни минуты… Мы можем предотвратить катастрофу… Мы еще можем предложить мир.
Он говорил сжато, как бы вколачивая мысли. Кончив, бросил бумажную ленту, и она запуталась вокруг чернильницы. Сталин, стоявший у стола, заложив руки за спину, проговорил сейчас же:
— Вопрос, товарищи, стоит так: либо поражение нашей революции и связывание революции в Европе, либо же мы получаем передышку и укрепляемся… Этим не задерживается революция на Западе… Либо передышка, либо гибель революции… Другого выхода нет…
Вождь «левых коммунистов» — тот, кого едва не побили на Путиловском заводе, — в расстегнутой шубейке, в финской шапке с отвисшими ушами, сидя на подоконнике, крикнул насмешливо — напористо:
— Да немцы же не будут наступать, — это всякому ясно… Немецкие приготовления — демонстрация и только… На кой же чорт им наступать, когда мы демобилизуем фронт…
Сталин, вынув изо рта трубку, медленно повернул к нему голову и — холодно:
— Военный механизм сделан для войны, а не для демонстрации. Немцы подготовили наступление и будут наступать, потому что мы им не предложили мира. Если не предлагают мира, то всякий здравомыслящий человек понимает, что предлагают войну. Через три часа немцы начнут войну… А это будет означать то, что через пять минут ураганного огня у нас не останется ни одного солдата на фронте…
За два часа до немецкого наступления Центральный комитет проголосовал предложение Ленина, и снова одним голосом оно было отклонено…
4Ровно в двенадцать часов германо-австрийский фронт от Ревеля до устья Дуная окутался ржавым дымом тяжелых гаубиц, задрожала от грохота земля, поднялись лохматые столбы разрывов, застучали в гнездах пулеметы, понеслись над фронтом монопланы с черным крестом на крыльях, выше поднялись привязанные аэростаты в виде колбас, отсвечивающих на солнце. Германские стальноголовые цепи вышли из окопов на приступ русских мощных железобетонных укреплений.