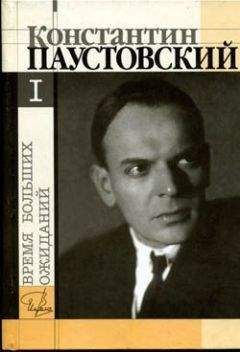Константин Паустовский - Родина (сборник)
Он замолчал и смущенно махнул рукой.
Как ни бесновался в этот час океан, но его рев не мог заглушить рева зрительного зала, не понявшего слов, но понявшего жесты и блеск глаз. Все пошло вверх дном. Сначала долго кричали и сморкались. Потом под хлопанье железных рук и свист мальчишек на сцене начались матросские танцы.
Стулья отлетели к стенам, и весь зал качался и скрипел, как шхуна в полный ветер. Зал кружился пестрой, невиданной и трескучей каруселью.
Царило веселье, небывалое в Вардэ. Твид и Бриг притопывали в такт тюленьими лапами, затягивая старинную песню о черном австралийском фрегате. Высокие сероглазые русские дробно отбивали чечетку и плясовую.
Даже пройдоха Блют, лихо отщелкивая джигу, выкрикивал невнятные слова, молодцы с «Христиании» показали пораженным зрителям свой боевой помер – танец с финскими ножами. Хромой скрипач Тик надрывался от старания, вывизгивая бешеные мотивы, и старики из задних рядов орали ему:
– Не дрейфуй, Тик, ставь все паруса.
– И-и-и, эх, – крикнул внезапно появившийся в толпе «Слюнявая треска», начальник порта Торсен, и швырнул в угол фуражку с золотым галуном. – Что? Разве я не ходил с вами, ребята, на Ньюфаундленские банки? Пошел все наверх, вали на мою голову. Жарь, Тик, старина, пока не лопнули струны.
И, подхватив дочку Твида с наивными васильковыми глазами, он пустился в пляс, изредка бодро покрикивая:
– Прибавь ходу, Тик, не уваливайся под ветер.
Аптекарша взвизгнула и упала в обморок. Было ясно, что в Вардэ началась революция и власть стортинга и короля бесповоротно свергнута взбунтовавшимся народом.
А через час консул Свен внезапно перестал храпеть и сел на кровати. С улицы доносился хор молодых голосов:
Консул Свен, старый черт, все ворчит
И ругает несчастную фру,
Что молчит и сопит, точно кит,
И не может заштопать дыру.
На штанах
Голубых
В галунах
Золотых.
Ио хо, ио хо, ио хо.
vНа штанах в галунах
Ио хо, ио хо, ио хо.
Королевский подарок богатый
Из английской матерьи с заплатой.
«Тюлень» и «Гагара» ушли. Но еще долго бурлило Вардэ, как кипяток на остывающей плите. Либеральная газета взывала к спокойствию и забвению «горестного и преступного» дня, когда невинный концерт внес смятение и поколебал умы мирных граждан. «Фольксгаат» делал едкие замечания, весьма неприятные для консула Свена, а мальчишки еще долго свистели в два пальца и кричали:
– Даешь революцию!
Вардэ затих. Но зимой в тишине ночей, иллюминированных синими огнями сияний, у девушек долго сверкали глаза темным блеском, и плакала сама не зная от чего – от радости ли, от печали – вдова матроса Свена Руна, Христина Руп, глядя в угрюмую муть полярной ночи. Был слышен только лай лапландских собак и затихающий за черными мысами гул Ледовитого океана.
Вардэ затих и ждал тех дней, когда за восточным мысом заалеет, предвещающий близкую и теплую весну, первый янтарный рассвет.
1925
Три страницы
Дни тянутся привычно. Они похожи один на другой, ничто не случается, и только листки календаря показывают разные числа.
В такие дни начинаешь ненавидеть часы и календарь. Они зло отсчитывают время, бесшумно уходят в пустоту. Жажда нового, смятений, смеха, сверкающих городов, жестоких драм и пленительных, опасных историй бессильно грызет сердце, как беззубый пес грызет обглоданную кость.
Был темный день, и море билось у набережной, слизывая красные мандариновые корки. Выпал тонкий снег, палубы пароходов хрустели под тяжелыми сапогами, от снега пахло хвоей, и окна кофеен запотели от душистого пара.
В этот день в мои руки попала рукопись – тетрадь в клеенчатом переплете, исписанная ровным почерком синими липкими чернилами. Много страниц было вырвано. Осталось только три. Вот их содержание.
СТРАНИЦА ПЕРВАЯ…Мы вышли с ним из Морского корпуса. Помню, была зима, холодный день, и от жестокого мороза стлался по Невскому не то туман, не то дым. Солнце уже садилось, и окна дворцов пылали. Извозчики гнались за нами, звеня бубенцами, и кричали:
– Кадетики, подвезем! Прокатим, ваше благородие! Мы прошли на Зимнюю канавку – его любимое место.
Нева была в снегу, небо низко висело над Петербургом, наши башлыки заиндевели.
– Миша, – сказал он мне и взял меня за рукав шинели. – Миша, об этом месте писал Пушкин в «Пиковой даме», ты помнишь?
Я промолчал.
– Убил его царь, – сказал он снова, нервное лицо его задрожало. – Разве могла засеченная шпицрутенами чугунная Россия, не страна, а сплошная жандармская казарма, сберечь его, да и нужно ли ей было его беречь?
– Ты любишь крайности, – ответил я. – Убил его Дантес, а царь сам плакал, когда ему доложили о смерти Пушкина.
– То-то он и приказал вывезти его тело тайком из столицы. Не верь дурацким басням. Ты знаешь, что царь сказал, когда ему доложили о смерти Лермонтова?
– Нет.
– Царь сказал: «Собаке – собачья смерть».
Он произнес эти слова так, точно ударил меня нагайкой.
– Ты – опасный человек, – сказал я. – Плохой из тебя выйдет морской офицер.
– Смотря для кого. А ты человек без стержня. Ты мягок, как женщина, податлив и боишься гнева. Миша, это опасная черта. Ты невольно сможешь стать предателем.
Мы вышли к Неве. Мосты горели торжественными дугами огней над невским черным льдом, и жгучая боль залила мое сердце. Он знал меня лучше, чем я сам.
А теперь, небритый, измученный вечной боязнью, в этой стране, столь далекой от Петербурга, я вспоминаю ту зиму, бронзовых коней, взнесенных над Аничковым мостом, зеленоватый свет ночи за полукруглыми окнами дортуаров, его черные судорожные брови, сухую руку, которую он клал мне на плечо, когда мы вместе зубрили мореходную астрономию.
Лучше бы не было этой встречи…
Страница вторая…Адмирал процедил сквозь зубы:
– Вы колеблетесь?
Я молчал. Шея его стала медной от гнева.
– Отказ выполнить приказание равносилен открытому вооруженному бунту! – крикнул он, и голос его задребезжал.
На глаза у него наплывала пленка, как у зарезанных кур. Мне почудился запах гнилой курятины. Я задрожал. Под сердцем стало холодно.
– Слушаюсь, – сказал я, повернулся и вышел.
Я должен его расстрелять. Государь торопит казнь.
Его имя – имя лейтенанта Шмидта – стало святым в России. Давно ли я сам клялся на севастопольском кладбище, после его речи, весь мозг свой и всю кровь свою отдать за освобождение страны. Я крикнул «клянусь», а какой-то старик обернулся ко мне и насмешливо сказал:
– Надолго ли, лейтенант? Погоны бы раньше сняли!
Так всю жизнь меня преследуют людское недоверие и взгляды с опаской, и я стал бояться самого себя. Ибо узнал, что нет того, на что человек не пойдет, ежели он «без стержня». Волнение мое на кладбище окончилось пьянством, а того, кому я клялся, – трибуна народного, захваченного в плен, полного высшего благородства, друга моего с юношеских лет, – я из трусости согласился расстрелять.
Рассвет был туманный, мутный, злой. Густой туман, мрачность легли на берега.
Я помню, как мы выгружали на остров казачью сотню.
Она должна была пройти над его телом и утрамбовать землю, чтобы не было видно даже того места, где был зарыт поднявший руку на царя и дерзко объявивший себя командующим Черноморским флотом.
Его поставили и матросов… Я стоял со взводом, опустив глаза, боясь взглянуть, втайне надеясь, что в сумраке он меня не узнает.
Но он меня узнал.
Громко и просто он сказал в необычайной тишине:
– Миша, скажи своим людям, чтобы они целили вернее.
Я поднял голову, и наши взгляды встретились. Он… улыбался. Улыбался, как в корпусе, спокойно и насмешливо. Лицо его было бледно. Предутренний ветер шевелил густые волосы.
– Хоть раз в жизни не трусь и не тяни, – снова сказал он громко и отчетливо.
Затылки у матросов дрожали и приклады судорожно постукивали о землю.
Я махнул рукой и отвернулся. Защелкали вразброд вороватые выстрелы, и я слышал, как он упал.
А эти подлецы, что били его по лицу после плена, чем они лучше меня? Почему же они делают вид, что не замечают меня и отказываются подавать мне руку!
Страница третья«Собаке – собачья смерть».
Я стал стар, и чем старее, тем все более цепляюсь за жизнь, боюсь умереть, точно мне не надлежит умереть, а быть, в свою очередь, казненным.
Пришла революция. На второй день я встретил бывшего баталера Наливайко, который был тогда во взводе. Я сказал ему: «Иди к народным властям, скажи, что видел меня и укажи адрес. Тебе ничего не будет, ты матрос, а мне пора. Прятаться хуже».