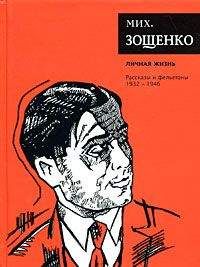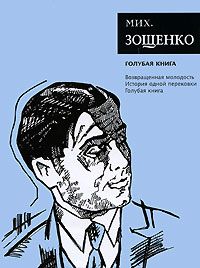Михаил Зощенко - Том 1. Разнотык
Зощенко расставался с прошлым по-гоголевски — стихами в прозе, смехом сквозь слезы.
К концу двадцатых годов «среда», которая это хорошо понимала, сама становилась исчезающим объектом.
А сзади, в зареве легенд
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката…
Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.
У Зощенко взят нижний этаж, но той же самой — уходящей — среды. Может быть, поэтому второй том «Сентиментальных повестей» так и не состоялся.
В книге «Перед восходом солнца» есть рассказ о выступлении, относящийся к середине двадцатых годов.
«С трудом я выхожу на эстраду. Сознание, что я сейчас снова обману публику, еще более портит мое настроение. Я раскрываю книгу и бормочу какой-то рассказ.
Кто-то сверху кричит:
— «Баню» давай… «Аристократку»… Чего ерунду читаешь!»
К. Чуковский вполне правдоподобно предположил, что «ерундой» для харьковско-ростовской публики была одна из сентиментальных повестей: люди пришли на выступление не такого писателя. Не менее правдоподобно и другое: требовали дать «Баню» и «Аристократку» не Белокопытовы и Котофеевы (в этой среде не принято криками общаться с писателем), а Вася Былинкин или зав. хлебопекарней Яркин.
И он — давал!
«Второй Зощенко» был не началом, но антитезой миру сентиментальных повестей.
Вопрос «О чем поет соловей?» в этом мире уже не встает.
Соловей поет по одной-единственной причине: потому что хочет жрать.
Кафки ЗощенкоВторая книга, вторая поэтика такого Зощенко сложилась параллельно с «Сентиментальными повестями» из десятков маленьких сборников, нескольких сотен текстов (текстиков), разбросанных по страницам «Смехача», «Бузотера», «Ревизора», «Мухомора», «Огонька», «Чудака», «Дрезины», «Бегемота», «Красного ворона» и «Красного журнала для всех».
Азарт, с которым писатель погрузился в этот традиционно презираемый серьезными писателями мир, вызывал иронию серапионовых братьев и презрение серапионовых девиц.
«Зощенко всерьез считает свою работу в юмористических приложениях стоящей. Тоже — дачный муж» (К. Федин — Л. Лунцу, 20 июля 1923 г.)[12].
«Он выпустил в «Радуге» юмористические рассказы — скверное впечатление производит книжонка. А он — серьезно к ней, гордится спросом. Мне за него, за его талант обидно» (Л. Харитон — Л. Лунцу, 8 августа 1923 г.)[13].
Как Чехов для современников долгое время был скрыт за масками Антоши Чехонте или Человека без селезенки, большинство читателей Зощенко двадцатых годов видели в нем не сентиментального И. В. Коленкорова, а разухабистых смехачей Гаврилыча, Михал Михалыча, Мих. Кудрейкина, приват-доцента М. М. Прищемихина и прочих. Востребован публикой оказался не автор «Козы» и «Людей», а сочинитель «Бани» и «Аристократки».
Личный выбор, эстетическая удача и историческая закономерность, наложившись друг на друга, привели к образованию «феномена Зощенко».
В двадцатые-тридцатые годы писатель много раз повторяет одну и ту же мысль и даже фразу: «У нас до сих пор идет традиция прежней интеллигентской литературы, в которой главным образом предмет искусства — психологические переживания интеллигента. Надо разбить эту традицию потому, что нельзя писать так, как будто в стране ничего не случилось» («Литература должна быть народной»).
Это были претензии и к себе в роли «правого попутчика» И. В. Коленкорова, в сентиментальных повестях которого доминировали психологические переживания интеллигента.
Между тем, в стране случилась революция. На осознании этого фундаментального факта строится вторая, противостоящая «Сентиментальным повестям», поэтика Зощенко двадцатых годов.
Как и Мандельштам (и по тем же причинам), Зощенко констатирует «конец романа», построенного на старом «гуманистическом» отношении к самостоятельно творимой человеком биографии.
«Вот в литературе существует так называемый «социальный заказ». Предполагаю, что заказ этот в настоящее время сделан неверно.
Есть мнение, что сейчас заказан красный Лев Толстой.
Видимо, заказ этот сделан каким-нибудь неосторожным издательством. Ибо вся жизнь, общественность и все окружение, в котором живет сейчас писатель, — заказывают, конечно же, не красного Льва Толстого. И если говорить о заказе, то заказана вещь в той неуважаемой мелкой форме, с которой, по крайней мере раньше, связывались самые плохие литературные традиции» («О себе, о критиках и о своей работе»).
Зощенко берется за эту неуважаемую мелкую форму — «чушь», «ерунду собачью». Вместо красного Толстого (на эту роль в двадцатые годы претендуют многие — от настоящего «третьего Толстого» до Фадеева, от П. Романова до соратника-серапиона К. Федина) Зощенко выбирает роль советского Антоши Чехонте, которого тоже поначалу связывали с самыми плохими литературными традициями. «Я был сначала поражен Вашей неиспорченностью, потому что не знал школы хуже той, которую Вы проходили в «Новом времени», «Осколках» и проч.», — признавался Чехову Михайловский[14].
Главным чеховским жанром в восьмидесятые годы была сценка. В ее основе — забавный случай, конфуз, анекдот. Композиционно такой текст состоит из короткой повествовательной экспозиции-вступления, обозначения некой парадоксальной ситуации и оживленного — с установкой на комизм — обсуждения ее несколькими персонажами. Доминантой сценки, таким образом, оказывался диалог, разговор; она воспринималась как мини-драма, сверхкраткий водевиль, в котором ремарки превратились в короткие повествовательные связки. Таковы у Чехова «Хирургия», «Налим», «Хамелеон», «Унтер Пришибеев» и многое другое.
Сценочную традицию продолжили писатели из журнала «Сатирикон» (А. Аверченко, Тэффи, А. Бухов), но их тематический репертуар сузился, и потому юмор стал легким, однотонным, однообразным.
При необходимости шутить ежедневно, отмечаться едва ли не в каждом номере тонкого еженедельного журнала проблемой становился поиск темы. Антоша Чехонте лихорадочно ищет темы на улице и в газетах, в шутку обещает платить за придуманные темы знакомым и родственникам.
Главным ориентиром, компасом для «осколочной» беллетристики был календарь, движение по годовому кругу: Рождество — Масленица — Пасха — открытие охотничьего сезона — дачные романы — осеннее возвращение в департамент или университет — снова святки. Так в литературе отражалась устоявшаяся, обычная, нормальная жизнь.
Сценки Михалыча очень далеки от тех, что сочиняли в восьмидесятые годы Антоша Чехонте или Лейкин. Старый осколочно-сатириконский быт исчез, превратился в пыль, на смену ему пришли совсем иные темы и проблемы.
В 1927 году в Париже В. Ходасевич, прочитав два новых сборника Зощенко, занялся подсчетами. В 99 мелких рассказах, «эпизодах советской повседневности», составляющих «гущу советской обывательской жизни» он обнаружил лишь по одному убийству, изготовлению фальшивой монеты, мошенничеству и взятке, но зато десять драк, семнадцать случаев воровства, «ряд вещей, в которых пьянство составляет основную, главную тему», множество не поддающихся учету случаев хулиганства, изумительной темноты и прегрешений «на семейном фронте»[15].
Эпитет изумительный демонстрирует внешнюю точку зрения на зощенковский «самоцветный быт». Между тем принципиальной особенностью второй поэтики Зощенко был взгляд изнутри, с точки зрения центрального персонажа-протагониста, находящегося в гуще новой повседневности.
Ю. К. Щеглов определял рассказы Зощенко как «энциклопедию некультурности». Парадоксально, однако, что эта некультурность становится фундаментом новой, возникающей на развалинах прежней, культуры.
В «Сентиментальных повестях» Зощенко сталкивал новые формы с прежними, уже теряющими почву, превращающимися в эпигонство, неспособными защищаться. В рассказах двадцатых годов он создает универсальную картину, фундаментальный лексикон новой культуры в ее обыденном, бытовом, низовом варианте.
«Ошибки нет. Я пишу о мещанстве. Да, у нас нет мещанства как класса, но я по большей части делаю собирательный тип. В каждом из нас имеются те или иные черты и мещанина, и собственника, и стяжателя. Я соединяю эти характерные, часто затушеванные черты в одном герое, и тогда этот герой становится нам знакомым и где-то виденным», — объяснял позднее писатель в «Возвращенной молодости».
Этот знакомый герой, никогда не читавший не только Ницше, но и Блока с Есениным, вдруг заговорил у Зощенко своим языком, очень далеким как от старой интеллигентской речи, так и от современного публицистического жаргона.