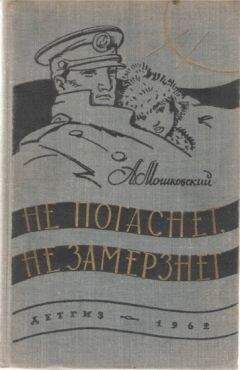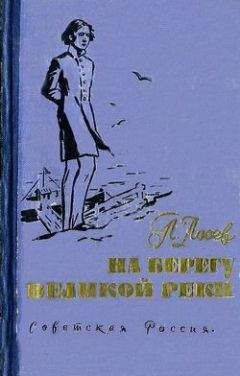Анна Караваева - Родина
— Вот так-то лучше! — удовлетворенно сказал Пластунов. — Идите-ка к своим ребятишкам!
Попыхивая трубкой, Пластунов стоял на улице. Из ярко освещенного окна в большом доме напротив опять вырвалась мелодия.
«Конструктор наш все еще музицирует!» — усмешливо подумал Пластунов и стал, чтобы послушать.
Любя музыку, он был почти лишен музыкального слуха и не знал, что сейчас играет Костромин. В освещенном квадрате окна показалась прильнувшая к скрипке встрепанная (Пластунов с улыбкой вспомнил его мелкие кудерьки) голова конструктора, потом скрылась и опять показалась, — играя, скрипач расхаживал по комнате. Окно было во втором этаже, и Пластунов слышал, как Костромин начал притопывать, на ходу отбивая такты.
«Что выделывает! А! — посмеивался Пластунов, вспомнив, что как раз сегодня Костромин рассказывал ему, что многие технологические решения обдумывались им под эту своевольную музыку, которую Елена Борисовна называла «невообразимой».
«Он заставляет музыку играть на себя!» — вспомнились Пластунову негодующие слова жены.
«Да пусть его, Леночка, пусть его играет, как знает, если это помогает ему. Каждый человек, милая, доходит до главного своим путем».
Он знал, чем была занята сейчас беспокойная голова Костромина: конструктор готовил к сдаче проект нового среднего танка «ЛС». Учитывая требования фронта, он произвел столько изменений и добавлений в существующей конструкции, что ее с полным основанием можно было объявить новой маркой. Уже недалек был ожидаемый заводским руководством день доклада Костромина и его конструкторского бюро.
Слушая прихотливую мелодию и притопывания Костромина, Пластунов так и хотел крикнуть: «Как дела, Юрий Михайлович?», — но тут же остановил себя: в каждом человеке он особенно ценил умение «итти к главному своим путем» и всегда остерегался проявлять какое-либо, даже в мелочах, вмешательство в «работу мысли». В глубине души он был убежден, что он, Дмитрии Пластунов, «хоть и незадавшийся философ», а, однако, яснее многих понимает сложность духовной жизни человека.
Когда Пластунов еще был комсомольцем и работал токарем на «Красном путиловце», товарищи прозвали его «философом». Он и в самом деле интересовался философией, кое-что почитывал и любил «покорпеть над трудной книжицей», с наивной жаждой узнать, «как люди мыслили в разные времена и как это влияло на человеческую жизнь». Именно в таких выражениях написал он свое заявление в комитет комсомола, чтобы послали его «учиться на философа», Но ему возразили: «Нет, друг, подкопи знаний и культуры, да и с твоими золотыми руками надо учиться на инженера-станкостроителя». Он стал инженером-станкостроителем. Потом война, как невесело шутила Елена, «зачеркнула букву «с», и он стал «просто танкостроителем». Зато теперь, как ему казалось, «философия очень пригодилась». Юношеские горячие споры о том, «как законы диалектики проявляются в реальной жизни», теперь, окрепшие, возвращались к нему, как птицы в старые гнезда. Он увидел перед собой множество людей разных характеров, знаний, быта, привычек — и все собрались здесь, на уральской древней земле, и должны были не только прижиться, но и слиться вместе, в одну семью, для фронтового труда: создавать танки, тысячи танков для победы. Пластунов думал о всех своих встречах за сегодняшний день, и перед глазами его прошли Пермяков, Назарьев, Костромин, Нечпорук, Ланских и многие другие, — и он, перебирая их в памяти, подумал, как они все не похожи один на другого…
Тут он заметил, что скрипка замолкла. В окне Костромина было уже темно.
Поселок засыпал. Где-то молодой и сердитый женский голос звал домой заигравшихся детей. Многие окна уже спали. Но со стройки доносился неугомонный протяжный скрип экскаваторов и фырканье грузовых машин. На карьерах над Тапынью рвали камень, гул взрывов далеким эхом отдавался где-то за лесами.
Пластунов с минуту послушал ночь и поднялся на свое крылечко.
ГЛАВА ВТОРАЯ
ТРОФЕЙ
Даже в ранних воспоминаниях Юрия Костромина отец и мать всегда были разные. Мать обогревала, освещала собой его детскую жизнь, ее теплые, порой нетерпеливые руки кормили, одевали, тормошили, иногда шлепали его, несли к кроватке, поднимали по утрам. С ней было тепло, иногда огорчительно, если она сердилась. С отцом всегда любопытно. Все, что исходило от отца, было решающим и прочным, как и он сам, громогласный человек с фигурой атлета. Его большие костистые руки водили красно-синим карандашом, как волшебным жезлом, — и множество линий, прямых, ломаных, закругленных, волнообразных, разбегались по белому полю, бесконечно живые и всегда что-то обещающие. Свиток плотной ватмановской бумаги, похожий на большую толстую свечу, покорно раскручивался в властных отцовских руках. Стальные ножницы, блеснув, как молния, со свистом разрезали бумагу, и ее белое поле, во всю ширину отцовского стола, матово и ожидающе искрилось, как снежная дорога под солнцем. Твердые пальцы отца вонзали круглые, как грошики, кнопки по краям белого поля, да так ровно и ловко, что Юрий не выдерживал:
— Папа, дай и мне… Я могу!
Отец разрешал. Юрий, следя за движениями его пальцев, так же смело вонзал коротенькое острие кнопки в старый рабочий стол.
— Ничего, — сдержанно говорил отец, — толк будет.
Юрий краснел от удовольствия и еще больше старался. Так же полюбил он очень употребительное у отца слово, еще не понимая его значения: «Преобразуем!»
— Вот как мы это преобразуем, — деловито и как-то удивительно вкусно говорил отец, и на белом поле всегда что-то менялось.
— Преобразуем вот так… — говорил он опять, и от росчерков его красно-синего карандаша чертеж, запестрев, сразу становился живым и новым.
Когда в кабинете никого не было, Юрий бережно брал из пожелтевшего мраморного стаканчика этот граненый, толстый, как трость, рабочий карандаш, пристраивался где-нибудь с лоскутом бумаги и, подражая отцу, упоенно бормотал:
— Н-да-а!.. вот мы это так преобразуем!
С годами Юрий понял, как широко было значение этого слова в жизни, особенно когда отец брал с собой его, глазастого, худенького гимназистика, в командировки. Гимназистик побывал во многих местах огромной России, всюду, где его отец, инженер-строитель, возводил заводские корпуса. За каждую поездку приходилось, как шутил отец, «платить дань» матери. У нес были честолюбивые мечты: она хотела, чтобы сын, голубоглазый, с пышными волосами, так похожий на нее, был скрипачом, как и его дедушка. Она рядила маленького сына в бархатные костюмчики с широкими кружевными воротниками, выкраивала деньги «на учителя», — уже с семи лет она стала учить сына играть на скрипке. Он послушно играл, а сам украдкой убегал в кабинет отца, возился над бумагами и радостно бормотал:
— Преобразуем!
Собираясь с сыном в очередную поездку, отец заговорщически подмигивал ему: «Ладно, попиликай, брат, попиликай, пусть успокоится!»
«Выкуп» за каждую поездку заключался в том, что сын должен был разучить на своей скрипке «нечто прекрасное». Так составился музыкальный репертуар Юрия. По требованию матери, он брал с собой в дорогу темнорыжий кожаный футляр, в котором скрипка лежала, как в саркофаге.
«Преобразуем!» — вспоминал всегда Юрий, когда видел, как в глубине какого-нибудь заводского двора поднималось здание нового цеха. То, что отец вычерчивал на белом ватмановском поле, воплощалось на земле заводскими стенами, гулкими лестничными клетками, просторными цехами, эстакадами. Это воплощение мысли в форму голубоглазый гимназистик скоро по-своему верно понял: «Папа все обдумал, начертил — и вот вышло!» И он, гордясь своим отцом, стремился помогать ему и всем, кто работал вместе с ним. Готовность помочь каждому так ярко светилась в его голубых, сияющих любопытством глазах, что рабочие привыкли доверять ему разные несложные поручения: «Ишь ты… вертится, дошлый мальчонка!» Сначала он знакомился с землекопами, каменщиками, плотниками, штукатурами. Но самыми интересными для него людьми были рабочие в цехах. Юрий целый день готов был смотреть, как цех заселялся машинами, а десятки юношей и стариков, веселых и серьезных, ловко собирали, казалось бы, из бесформенных кусков металла агрегаты и станки. И наконец по велению рабочих рук, которые все умели и знали, машины начинали свою сложную и точную жизнь.
Когда случались неприятности с заказчиками, отец громогласно бранил их за «тупость и жадность», а потом решительно говорил:
— А ну их к черту! В конечном счете, я для своего народа работаю. Придет время — все народу достанется.
Мать называла беседы отца с сыном «дурью»; в своих мечтах она неизменно видела сына стройным красавцем, во фраке, со смычком в изящно поднятой руке. Она мечтала о консерватории, куда она пошлет сына, «только бы ему развязаться с гимназией». Но смерть отца разбила все ее планы.