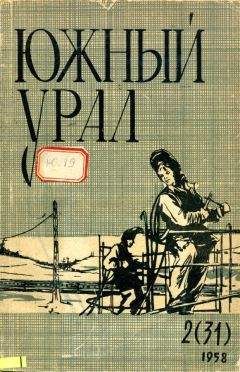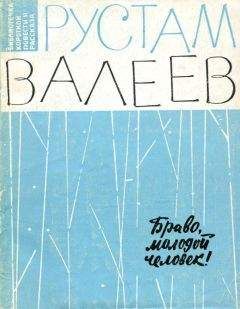Рустам Валеев - Земля городов
Я не особенно помнил о Харуне и уж совсем не докучал ему посещениями, но я знал: есть человек, готовый в любую минуту выручить меня из беды. Но пока что мои беды, редкие к тому же, заключались в отсутствии пяти или десяти рублей, в сумасбродном желании вдруг затеряться для всех и закатиться с Харуном на озера или зайти к нему с приятелем и распить бутылку вина. Иногда ночью в пустынном переулке я чувствовал озноб страха, но тут же успокаивался, вдруг поверив, что где-то вблизи невидимо пребывает Харун, готовый в миг опасности защитить меня.
А в одно время мы с ним зачастили на озера — вот тут-то он стал привораживать меня!
Часами просиживали мы возле рыбацкой избушки. Рядом на вешалах сушились сети, запах махорки, которую мы курили, мешался с гнилостным запахом от сетей. В зарослях безмятежно плескались утки, в вышине пролетали болотные луни и чайки. От пристани, распарывая надвое тростниковую чащу, протягивалась в озеро прокосная дорожка, по которой обычно рыбаки выезжали на чистое плесо ставить и осматривать сети, — а сейчас по ней сновали ондатры, волоча стебли водной растительности к тростниковым завалам и ломи. Иной зверек, бывало, непугано сидит на лабзе, распушив густую рыжую шерстку и как бы отложив в сторону чешуйчатый ребристый хвост.
Созерцание для Харуна было тот же труд, он обладал этим редким но нынешним временам качеством; он насыщал свой мозг благими мыслями, а мышцы тоской по движениям.
На иных озерах не было лабз — плавучих камышовых остатков, на которых ондатры строят свои хатки. Вот уж где трудились мы в поте лица! Вместе с рыбаками, вовлеченными в дело неукротимым Харуном, мы выкорчевывали пни и носили к берегу, привязывали к корягам камни, грузили в лодки и везли в тростниковые чащи.
— Ну вот, милые, — бормотал умиленно Харун, — теперь, милые, стройте себе жилища. — Вздыхал: — Кормов только маловато.
И мы отправлялись на машинах, подводах на соседние озера и возили оттуда корневища кувшинок и кубышек с ростками свежих листочков. Привязав к ним грузила, мягко опускали на дно.
— Разве напасешься, — говорил я, — всякий-то раз возить им кубышки.
Харун смеялся моей неосведомленности:
— А вот к осени кубышка даст семена. Их разнесет ветром и волной по всему озеру, а там они опустятся на дно и весной прорастут.
Харун преображался на озерах. Затурканный городской толчеей, одурманенный смрадом прокаленных улиц, здесь он был как добродетельный леший или, скорее всего, гном — коренастый, покрытый за день-два коричневым загаром, с тощими мускулистыми ногами, как лягушачьи пружинистые конечности. Харуна подобострастно окружали охотники и рыбаки. Его слово считалось внушительным. Рыбаки ненавидели ондатр, называли их не иначе как крысами со змеиным хвостом, жаловались, что зверек рвет сети и поедает рыбу.
Харун сурово отвечал:
— Рыбой ондатра не питается, запомните. Ей подавай осоку и тростник. А ежели вы с сетями не полезете к тростникам, то и сети ваши будут целы.
Я почти кожей ощущал, как я необходим Харуну. Он ни на минуту не выпускал меня из поля зрения, каждый мой одобрительный кивок, вопросительный взгляд, даже нечаянная усмешка точно возбуждали его энергию, страсть, вдохновение. Когда мы долго не виделись, он давал о себе знать письмами. Иногда я находил в почтовом ящике конверт без штемпеля — значит, он приходил к нашей двери и собственноручно опускал в ящик письмо. Это были действительно письма, с расспросами о здоровье, житье-бытье, скромным оповещением о своих деяниях, и заканчивались они, как и принято, приветами родным и близким.
Мне и в голову не приходило отвечать на его письма. Через день-другой после его весточки я отправлялся в плановый поселок, где стоял Харунов особняк, и бывал встречаем восторгом и лаской. Его дочки проносились по двору стремительно, словно газели, стрельнув в меня желтыми вспышками озорных непорочных глаз. Скоро по двору и саду распространялся духовитый запах от еловых шишек, сгорающих в ведерном самоваре.
Когда я гостил у Харуна, рослая, дородная жена и бесовские дочки не смели показываться на глаза, их шаги и голоса пошумливали где-то за сценой, подымая бурю в стакане воды: они, пожалуй, догадывались о причинах отцовского пристрастия к гостю. В первое мое посещение он, помню, удовлетворил их чисто бабье любопытство, показав нас друг другу. Затем ударил холодноватым взмахом руки, и на его лице отразилось искренное отчуждение. Старшая дочка была отменно хороша собой, рослая в мать, стройная, с карими влажными глазами, с золотыми волосами, жарко кипящими над ее подвижными лопатками.
— Эт-та такая ведьма! — прокомментировал он как-то мой взгляд, тоскливо простершийся вслед ее летучим шагам. — Эт-та пустая и злая девка! — искренно убеждал он меня.
Было досадно, что он держит свою красавицу подальше от меня. Но сам он представлял для меня такой интерес, источал такое добросердечие, а его любовь к моей матери была исполнена такой бережности и святости, что я не сомневался в правоте любых его действий. Раз он держит ее подальше, значит, так нужно…
Однажды я написал в газету про его озера и ондатровые пастбища — и поразил его. Как, об этом можно и написать? Конечно, он делает великое дело, но он не думал, что об этом можно и сочинить! Вскоре он отблагодарил меня, подарив чучело чирка-трескунка. Подарок мне понравился, но я сдуру спросил, что же мне с ним делать. И смутил его.
— А ты… не знаю… покажи маме! — вдруг выпалил он и, покраснев, опустил глаза.
…Вот к нему-то я и привел Биляла. Едва я представил брата и объяснил суть положения, Харун тут же брезгливо согласился устроить его дела.
— Но только!.. — Он поднял указательный палец и так им потряс, что редкие волосики на его голове всколебались. — Но только не вздумай ухаживать за моими дочками! — Тут он засмеялся, заметив за собой излишнюю серьезность, но и в смехе его прозвучало что-то брезгливое.
Не прошло и трех дней, а Билял уже работал в городской ветлечебнице. Лечебница занимала просторный старый одноэтажный дом на окраине города. За домом начиналась лесостепь.
Во дворе, во флигеле, нашлось и жилище.
Едва сбежав из теплой норы городка, Билял начинал новую самостоятельную жизнь, да как легко, беспечно начинал! Во-первых, само устройство произошло как по мановению волшебной палочки. Во-вторых, и дом, и флигель были как бы специально созданы для того, чтобы завлечь полувзрослого-полуребенка: романтический уголок, окруженный тополями, кленами и кустами сирени; старые и малые чудаки, преданные своим зверькам и животным и взирающие на юного лекаря с обожанием. Все это не могло не способствовать приязненному отношению к жизни. Билял, кажется, без труда уверился — жизнь легка, беспечна, замечательна. Странно иногда получается, вот как с Билялом: наивность и беззаботность в отношении к жизни делают ее почти что безмятежной; впрочем, наверное, до поры до времени.
— Даже не верится, что я так быстро привык к большому городу! — говорил Билял.
Но он не только не привык, он еще и не знал этой жизни, притулившись сбоку к бурно шумящему городу. В просторной комнате флигеля парили легкие тени деревьев, сухой солнечный воздух искристо дрожал. В вольере, сделанном во всю стену, скакала, вертелась в колесе, цокала по полу ретивая белка.
— О, это бывалая белка! — говорил Билял, угощая зверька орешками лещины и еловыми шишками. — У нее в правом ухе дырка от дроби. А оставили белку инженеры, уезжая в Якутию.
Вот белку ему оставили. Ему, я думаю, не только любимого зверька или, например, драгоценного кровного рысака, а и собственное дитя доверил бы любой его пациент, в особенности женщины. Сказать, что он имел успех у женщин — значит ничего не сказать; или — что они любили, уважали его — все не то; он был для них как раз тем человеком, которому они могли поплакаться в жилетку, открыться в счастье, приласкаться и самого его приголубить со всею женской, материнской нежностью, будь этой женщине даже пятнадцать лет. Наверное, что-то такое было в нем заложено с рождения, но я не ошибусь, если скажу: тут во многом сказались уроки его отношений с Катей Свидерской. Попробую объяснить: свое поражение он не считал поражением. Надежд в отношении Кати он не питал никаких, ведь добиться ее признания стоило бы немалых трудов, на которые он не то чтобы не был способен, а не нацелен всею сутью своего характера. Он вынес из этой истории одно открытие, одно убеждение: женщина — таинственное чудо, которое невозможно постичь, а можно только боготворить.
Да, я тоже слегка улыбаюсь, но вот пусть он сам скажет.
— Женщина никогда тебе не солжет, — говорил он, сидя у себя во флигельке перед отворенным в зеленую тишину двора окном. — Никогда не солжет! Ни мать, ни отец, ни твои братья — никто не сможет, не сумеет быть таким доверительным и вызвать ответную доверительность — только женщина, когда вы с нею… как один человек…