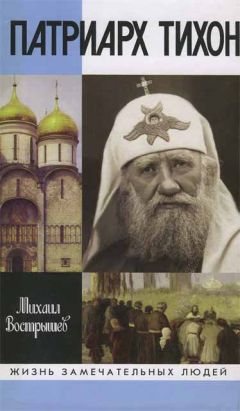Дмитрий Яблонский - Таежный бурелом
— Своих забот по горло, да и характером я, паря, беда крут. Тихоновские меня не избирали.
С волочившимся за спиной длинным кнутом, извивающимся по мокрой траве, подошел рослый детина.
— Не пожалеешь, Сафрон Абакумович, бери нас. А что крут — это к добру. Справедлив — об этом слух далеко идет.
С минуту они глядели друг на друга.
— Спасибо за доверие!
Обрадованные тихоновцы гурьбой проводили Ожогина и Дубровина до рощи.
Из-за реки донеслась песня.
Сафрон Абакумович прислушался.
— Галина поет. Наша, раздолинская. Теплый голос, мягко, всем сердцем поет.
Оба долго слушали.
— Растревожила девка душу, — продолжал старик. — Любила Агаша Галину. Да вот… Много в народе горя накопилось, лютой печали. Забили русский народ! Взять вот ее, Галину. Талант! Ей бы в хоромах петь, а она в навозе копалась, под плетью дохлого мужа стонала. Муж-то ее, Илья, ни на что не годен, вот и бесился от ревности, бил смертным боем. А девка всех статей: и умна и душевна.
— За что, Сафрон Абакумович, и бьемся, чтобы светлее народу жилось, — отозвался Дубровин.
Песня слышалась все ближе.
И мальчишка с коня повалился,
И упал он, упал вниз лицом… —
звенел необыкновенно звучный и чистый голос.
От приставшего плашкоута на косогор вытягивался обоз. Везли раненых и убитых в боях под Краснояровом — первые потери крестьянского ополчения.
Ожогин провожал взглядом телеги, сжимая в кулаке барашковую папаху с красной лентой, — пришлось сменить на нее соломенную шляпу.
Чья-то рука взметнулась с первой телеги. Молодой предсмертный голос звал:
— Мама… горит…
К телеге подбежала босоногая молодая женщина в белой косынке с красным крестом, нагнулась к раненому и, придерживая его за шею, что-то зашептала на ухо. Тот затих. И снова зазвенел высокий женский голос. Раненые, сдерживая стоны, слушали.
Ожогин с Дубровиным, ведя коней в поводу, подошли к телеге, Галя смутилась, оборвала песню на полуслове.
— Вот порубали парней… — сказала она вполголоса. — С песней, с бабьей лаской легче им…
— Святое дело творишь, — подтвердил Ожогин. — Спасибо, дочка.
Галя потупилась. Ожогин поцеловал ее в лоб. Сел в седло, махнул рукой.
— Трогай. Еще немало будет крови. Все впереди.
Скрипя тяжами, обоз двинулся в село. За ним ехали верховые на неподседланных конях, мычали коровы. Пахло конским потом, дегтем и гарью чадящих костров. Хлопая длинным бичом, по накатанной дороге подросток гнал отару овец. Завидев всадников, подбежал к ним.
— Где здесь наиглавного командира найти?
— А на что он тебе? — усмехнулся Ожогин.
Подросток вскинул глаза и обомлел.
— Деда, ты?
— Али очи, Дениска, повылазали, не признал?
Подросток шмыгнул носом, растерянно уставился на деда, перехваченного портупейными ремнями, с шашкой на одном бедре, с деревянной коробкой, из которой тускло светилась рубчатая рукоятка пистолета, — на другом.
— Вот это да!
Наклонившись с седла, Ожогин поцеловал внука.
— На что тебе наиглавный командир?
Дениска поцарапал затылок.
— Председатель Совета не велел говорить.
Ожогин переглянулся с Дубровиным.
— Наиглавный отсюда далеко, верстов еще тридцать, — разъяснил Ожогин.
— Вот гужеед, — осердился Дениска, — толком не скажет, а я мотайся третий день. Куда ни сунешься, никто не знает. Ну и чертяка с ними, с овцами, брошу — кому надо, найдут.
Ожогин поднял внука на седло, пощекотал его бородой, прижал к себе.
— Нельзя, Денис, так! Воевать собрался, а командира не знаешь.
— Шадрину велено овец сдать для воинов.
— Ну вот и договорились. Гони овец в Соколинку, там база снабжения. Отсюда рукой подать.
Дениска соскользнул с седла, свил бич на кнутовище и засвистел. Два лохматых пса с вываленными из пастей языками выбежали из кустов. Дениска размотал бич, со свистом развернул его. Раздался сухой щелк, и подгоняемая собаками отара тронулась по проселочной дороге.
— Твой, Сафрон Абакумович?
— Богат я внуками. Это Дениска, сынок Никиты. Сорванец — беда.
На вершине безлесной сопки Ожогин придержал Буяна. Приподнялся на стременах. Внизу лежала просторная долина.
— Вот и разыскали вяземцев, — сказал он. — Вчера они в Медвежий лог прибыли. Надо потолковать. У них, как и у тихоновских, доверенного на выборах не было. Заедем, военком, здесь недалече.
— Надо поглядеть, — согласился с ним Дубровин, притомившийся от долгой езды.
У железнодорожного переезда дорогу преградила старушка с корзиной на руке.
— Уж не знаю, как и просить, вижу, Сафрон, не до этого тебе… Раздать бы вот надо… — Она протянула Ожогину узелок на длинной тесемке. — Ты уж уважь, Бакумыч…
Старушка часто закрестилась.
— Батюшка, Бакумыч, потопчет супостат родимую земельку нашу… — Она хотела, видно, сказать еще что-то, но рыдания подступили к горлу, ноги подкосились, и старушка приникла лицом к земле.
— Встань, мать, встань. — Дубровин сошел с седла, поднял старушку. — Не потопчет, не допустим.
Теребя костлявыми пальцами бахрому полушалка, старушка сказала:
— Ты ужо не препятствуй, раздай узелки, они с нашей уссурийской земелькой. Вот гляди!
Старушка быстро распорола один узелок. В белой тряпочке лежал крохотный, с горошину комочек земли.
— Сердце смелеет, когда ратник чует запах родной земли.
Ожогин взял узелки. Надел себе один из них на шею, сказал:
— Спасибо тебе, будь покойна, раздам.
Старушка просветлела, поклонилась и быстро засеменила по дороге.
— Поднялась Русь, за самое нутро народ зацепило, — пояснил Ожогин, не спуская глаз с удалявшейся старушки.
Кони свернули с проселочной дороги, перешли вброд речушку. По Медвежьему логу пошаливал сквозной ветерок, стлал над некошеными травами дымы костров, нес аромат лаврового листа, поджаренного лука и черемши.
Буян вскинулся на дыбы, чуть не выкинув из седла всадника.
— Балуй, непутевый! — Ожогин потрепал конскую шею. Иноходец продолжал всхрапывать.
Сдерживая Буяна, старик приставил ладонь к бровям, оглядел местность.
У озерка паслась отара. К ней, поводя клыкастой мордой, подползал волк. Припадая к земле, он скрадывал отбившуюся от стада ярочку с ягненком.
— Обожди, военком! — крикнул Ожогин и ударил плетью Буяна.
Низко склонившись к конской шее, старик помчался к отаре. По-молодому избочась в седле, стал сечь плетью скалящегося зверя.
— Не подличай, варначина, не подличай! — азартно выкрикивал старик, с ожесточением полосуя зверя.
Дубровин залюбовался разгоревшимся лицом Ожогина.
На шум от костра примчалось несколько всадников. С седла спрыгнул Федот.
— О-о, дядя Сафрон! — радостно воскликнул он. — Волков хлещешь?
— Федот? Давненько не виделись. Ну как?
Ожогин обнял Федота Ковригина, поцеловал.
— Приказ исполнен. Вяземские, соколинские и казанские волости привел, — рассказывал Федот, ведя коня в поводу. — Меня, как фронтовика, избрали мужики воеводой. Идем под твою команду. Кони притомились, мы и днюем в Медвежьем логу.
— Дельно! Знакомься: военком фронта.
Федот шагнул к Дубровину, отдал честь.
— Пойдем, Федот, поглядим твое хозяйство.
Сафрон Абакумович переходил от телеги к телеге, осматривал коней, седловку, боевое снаряжение и все больше хмурился. Тревожа тишину лесов, звенели песни. Шумные ватаги парней и девок сновали по перелескам, у костров суетились женщины. Доносился детский смех.
— Что же женщин с детьми сюда привел? — сердито спросил Ожогин.
— Разве удержишь? Снялись, проводить хотели… «Пока, — говорят, — хлеба не подошли, поможем мужикам».
— А хозяйство на стариков кинули? Эх ты, воевода! Тебе ли, Федот, объяснять: кто кормить вас будет?
Ковригин виновато опустил голову.
— Не на гулянку идем, — еще строже продолжал Ожогин. — Ратное дело надо вести рачительно, с мозгой, недоглядишь, уступишь по слабому характеру — и силу растеряешь. Во всяком хозяйстве без малого не обойтись. Нож не доточил — скользнет по ребру, медведь шкуру спустит; ружье не вычистил — ржа ест, пуля скорость теряет; сенокос упустил — травы перестояли, скот такое сено без охоты ест; крышу у амбара недоглядел — осенью промочило, хлеб погорел.
— Трудновато на полном маху табун вспять повернуть, — оправдывался Федот.
— А надо…
Перед Ожогиным и Дубровиным поставили чугунок со щами. На холсту положили каравай ржаного хлеба, нож и деревянные ложки.
Тем временем Ковригин собрал сотенных. Они стоя выслушали командира, разобрали коней, разъехались по своим подразделениям. Вмиг все всколыхнулось. К командирскому шалашу потянулись женщины и девки. Ковригин поднялся на телегу.