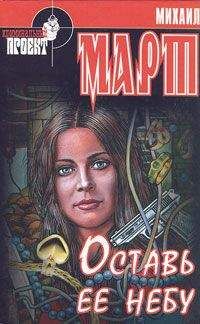Станислав Мелешин - Расстрелянный ветер
— Некогда, — пошутил Василий, чиркнув спичкой, глубоко затянулся дымом, готовясь к серьезному разговору.
Мимо прогромыхал трамвай, позванивая. Поздние пассажиры всматривались в окна, думая о чем-то своем, наверное, о домашнем уюте, об отдыхе, о родных и близких, о своей судьбе. Вот и Клавка проводит его до пятой вахты, уедет на таком же трамвае к себе в теплое, милое общежитие последний раз. А завтра — к нему, чтобы начать жизнь вместе, рядом.
— У отца авария. Злой он сегодня, — сообщил Василий и потер щеку.
— Знаю. Мне Павлик Чайко говорил. Отец, наверное, больно переживает?
— Не знаю, — вздохнул Василий.
— Эх ты! У отца авария — а ты — «не знаю».
— Да ну его. Что он меня учит? Так живи, так живи… А я человек со своим умом, свободный. По-своему хочу жить.
Клавка прислушалась.
— Это легко. А вот как стать настоящим человеком. Вот как твой отец.
— А может, как Степан Иванович Пыльников?
Клавка засмеялась:
— Но ты ведь не Пыльников — ты Байбардин! Пыльников… Он и на заводе-то работает только ради денег. Принесет зарплату и пересчитывает. Я видела. Базарник. Скопидом. Разве с него пример надо брать?
— А с кого же? Скучно мне жить, как отец.
— Скучно? Много ты понимаешь…
Помолчали, оглядывая широкий мост: вода пламенела внизу за железными решетками у каменной дамбы. Василий бросил докуренную папиросу, искры разлетелись, погасли.
Я пойду с толпой рабочих,
Мы простимся на-а мосту… —
пропел, взяв Клавку под руку. Когда она рядом с ним, ему всегда хотелось обнять ее за плечи.
Клавка высвободила руку и, коснувшись мягкими, теплыми пальцами шеи Василия, поправила загнутый ворот рубашки. В спецовке он был смешной, широкий и сильный, как водолаз в скафандре.
— Я очень люблю тебя, Вася.
— Знаю. Вот Марс — планета. Видишь, красная звезда на небе. Там тоже люди живут, работают. — Василий вздохнул. — Тебе неинтересно?
— Интересно. Там тоже… Вот как мы сейчас — стоят молодые и нас разглядывают: что за парочка стоит, что у них на душе?! Солидарность!
Они оба рассмеялись громко и молодо.
— Планетчик ты мой, любимый! Дай я тебя в губы поцелую!
— Целуй. Не жалко — твои теперь!.. Клава, а вот… случится что со мной. Споткнусь, дел натворю. Ошибусь. Авария. Ну, случай такой выпадет, судить будут, посадят или уеду на край света, что ты делать станешь? Поможешь, бросишь все и за мной?
Клавка рассмеялась:
— Что это тебе в голову взбрело?
Василий нахмурился.
— Я серьезно.
Клавка подумала о чем-то. Помедлила.
— Как получится.
Василий рассердился:
— Я тебе дам, как получится! И где ты этой глупости выучилась?!
Замолчал, зашагал быстро. Она чувствовала, что он думает о ней, хорошо думает.
— Подожди! — остановила она его. — Не спеши. Я знаю. Раз я, Вася, решилась за тебя выйти…
— Ну, это другое дело. На край света далеко ходить, а пока вот до завода дойдем.
— Ну, когда поведешь меня в дом? Завтра? — спросила Клава.
Василий остановился и вздохнул.
— Ушел я. С отцом поссорился. Надо нам самостоятельно жить.
— А как же теперь? Где мы будем жить?
— Пока можно у Пыльниковых. Места у них много — со Степаном Ивановичем я договорюсь.
Клавка отрезала коротко:
— Нет! Хватит с меня. Пожила я у них.
— И ты, и ты против меня?!
— Я не против… Лучше у других жить, чем у Пыльниковых.
— Ну, у других пока. А потом домик купим, сад и будем жить отдельно ото всех, сами себе хозяева.
— Я сама высокие дома кладу, в них и жить хочу. Стройуправление даст комнату. А в домике не буду жить. С хозяйством, с садом. Ты потом меня с работы снимешь, дома работать заставишь. Знаю, эти домики на окраине. Не хочу жить на окраине!
— А еще говоришь, на край света за мной пойдешь! — упрекнул Василий.
— То на край, а то в другую жизнь идти надо. Не по душе мне все это.
Василий грустно усмехнулся.
— Не по душе. А что по душе?
Он встревожился тем, что вот Клавка только любит его, но не понимает, а он был уверен, что Клавка его поймет. «И у нее, оказывается, есть своя линия в жизни, такая же, как у отца. И у нее дом и зарплата не на первом месте стоят! А что же в жизни должно быть первым, главным? Значит, я живу на окраине?! А вдруг Клавка не пойдет за меня на край света, раз нету у меня главного?»
Одной любви-то для жизни мало! Еще он понял из разговора, что покоя она ему не даст.
Раньше казалось: как жить, каким быть — это очень просто, это давно решено. Живи и работай, какой есть. Все вроде тобой довольны. А сейчас два таких вопроса — как жить, каким быть — становились неразрешимыми для него, и он только догадывался, что их нужно решать почти всю жизнь и что, в сущности, он в этом ничего еще не понимает.
— Ладно, — сказал Василий. — Этот вопрос завтра решим. Где жить, как жить — в две минуты не обдумаешь.
— Иди! На работу опоздаешь, — сказала Клавка.
Они стояли у пятой вахты, в ворота которой въезжали грузовики, а в проходную входили рабочие ночной смены. Над ними поднял свои железные и кирпичные стены будничный завод с высокими трубами, с огромными дымами и приглушенным шумом. В небе красные от плавок дымы дрожали над заводом. Колыхался маревом нагретый воздух от горячих боков доменных труб и мартеновских печей. И эти красные дымы лохматились там, высоко в ночном небе, где гуляли холодные ветры.
— Ты у меня будешь хорошей женой! — вдруг просто сказал Василий Клавке.
— Не знаю… — вздохнула Клава, а потом подтолкнула Василия в спину.
— Иди. Опоздаешь.
Он кивнул и, застегнув верхнюю пуговицу спецовки, заторопился к проходной.
Клава зажмурила свои чистые детские глаза и, открыв их, увидела, как Василий слился с потоком рабочих и, когда его уже нельзя было различить среди других, видела только спины в спецовках, она села в трамвай и помахала Василию вслед рукой, не замечая, что машет рукой всем, кто идет на большую, тяжелую работу, к огню — плавить металл.
Магнитогорск — Москва
1956 г.
ЛЮБАВА
Повесть
посвящается
М. М. Окуневой,
педагогу
1
Июльская жара прибила ковыли к потрескавшейся сыпучей земле, и тяжелый горячий воздух будто поглотил степь, закрыл огромное желтое солнце, дымчатое по краям, закружил округу в темном колышущемся мареве. Качается марево на ковылях — качается глухое бездонное небо, и растворившееся солнце подрагивает, мерцая. Поблескивают высохшие дороги, ядовитая зелень придорожных запыленных трав и камни — степные валуны. Все вокруг охватила глухая знойная тишина-дрема, и только изредка процвинькает где-то кузнечик, просвистит осторожный суслик, перебегая дорогу, да нечаянно зазвенит последний отчаянный жаворонок, и снова — жара, марево, ковыли и раскаленное солнце.
Твердая широкая дорога, древняя и избитая, белой лентой опоясала степь вкруговую и, пересекая железнодорожную насыпь, пропала за горизонтом. Тишину оглушил одинокий грустный гудок паровоза, который, дыша стальными боками и бодро лязгая колесами, тащил за собой четыре вагона — спешил к горизонту, в марево. Вот выбросился к небу вспуганный ястреб, закружил тревожно над оврагом.
Далеко-далеко виден всадник, он мчится по дороге, — должно быть, торопится навстречу поезду, к степному полустанку. Стучат копыта о твердую, как металл, дорогу — пыли нет, и в мареве всадник будто плывет по воздуху.
…Поезд остановился на полустанке, напротив нелепо большого белокаменного дома, покрашенного известью. Два деревянных домика с сараями по бокам расположились позади, окнами в огороды. Ни плетня, ни забора. Лестница спускалась с насыпи вниз к шлаковым кучам, и последняя доска ее ныряла в пыль дороги, заезженной вдоль и поперек подводами и машинами. Поодаль, рядом с туннелем, грустно стояла водокачка с цепью. Пыльно и малолюдно. Тихо. Только на бревнах лежали спиной к солнцу голые мальчишки и окатывали себя из ведра водой, громко взвизгивая и смеясь. Гуси стояли в луже у колодца, смотрели на поезд и не гоготали. Из вагонов выходили редкие пассажиры и разбредались кто куда, ища подвод и попутной машины. У колодца сидели с узлами ожидающие, не торопились, ибо давно знали, что поезд простоит здесь целый час, пока не пообедает машинист. В репродукторе здоровенный бас бодро пел «Пляшут пьяные у бочки»… Вот из окна паровоза выглянул чумазый парнишка, кому-то помахал рукой. Станционный дежурный в красной выгоревшей фуражке строго по форме поднял желтый флажок. Паровоз отцепился и поехал к водокачке набирать воду. Все так же тоскливо и дремотно, как всегда. Из заднего вагона вышла группа последних пассажиров с ящиками и мешками и уселась у колодца напиться воды. Они громко переговаривались, чему-то смеялись, и в этой тишине и дреме были слышны их голоса, перебиваемые басом радио…