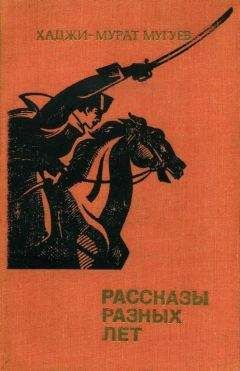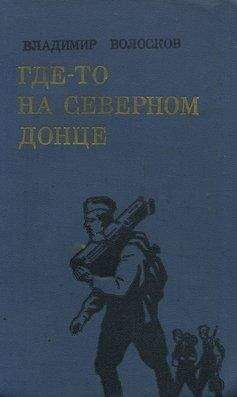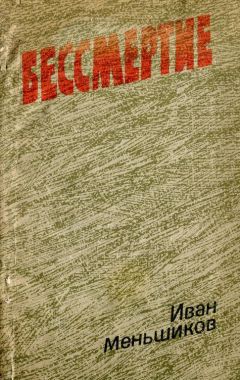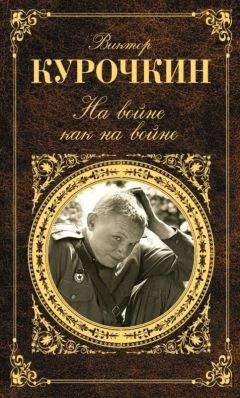Василий Оглоблин - Кукушкины слезы
— Ну ладно, повторяй еще раз. Должен же я из тебя хохла сделать. Говори: а щоб вы скыслы...
— А чоб ви скисли.
— Тьфу...
Мы лежали под самым потолком. За квадратным оконцем опять шлепал дождь. Он тяжело ходил по крыше, а когда на минуту утихал, слышно было, как жалобно повизгивает бесприютный ветер.
— Ты не сердись на меня, — виновато говорил я, — стараюсь, а не получается. Булка, буханка, каравай, коврига — отлично выговариваю, а вот эта самая ваша «палянися» не получается, не могу — и все, хоть язык вырви.
Дубравенко долго молчал. Заговорил грустно, мечтательно, вздыхая в темноту:
— Опять дождь идет. Не думалось мне раньше, что и это счастье — слышать, как дождь шумит, ветер подвывает. Меня сюда из Дорндорфа привезли, из внешней команды «фирма Генрих Кальб». Четыре месяца, словно крот, под землей высидел. Крот и тот вылезает из норы взглянуть на солнце, а нас как спустили в шахту на полукилометровую глубину, так за четыре месяца не видел ни разу солнца, ни восходов его, ни закатов, не слышал ни свиста ветра, ни шума дождя. Вот, друг, где ад был. Вспомню, как солнце в селе над левадой всходит, как очерета в леваде шумят ласково, очеретницы звоном малиновым заливаются, — выть хочется. А эсэсовцы одно орут: «Карачо, карачо!» — темп, значит, давай, быстро, быстро. Работали в две смены по двенадцать часов без перерыва. Своды выравнивали, новые штреки проходили. Работа каторжная, и палка над головой каждую минуту. Эсэсовцы тоже с нами под землей были, совсем осатанели, бьют и убивают походя. Забьют бедолагу какого, бросят в темный угол, лопат пять-десять породы сыпнут на него — и лежи, со святыми упокой. Двенадцать часов отышачил — и смена тебе идет, а ты — в ящик. Спели мы в ящиках продолговатых, на гробы похожих, тут же, недалеко от работы... Спустят сверху термосы с теплой похлебкой из брюквы, песочком приправленной, — похлебал, погрел желудок малость, пайку стопятидесятиграммовую назавтра припрятал, утром, перед работой, страх как есть хочется, вытянулся в ящике и лежи, не шевелись, чтобы лишней палки не схватить. А только лег — тут и провалился, в сон под землей сильно клонит. К концу первого месяца повысыхали мы, заржавели, будто селедки залежавшиеся. Многие с ума сошли, не вынесли. Многие калийную соль есть стали и пухнуть страшно, будто кто изнутри надувал их. Умирали в муках. Не захотел я смерти такой. Стал по ночам думать, как от ада избавиться. Полкилометра камня и земли над тобой. Один выход был — покалечить себя. Долго не мог решиться. Но вот утром увидели мы, что станки в шахту спускают, а тракторы развозят их по цехам. Хвостовое оперение ракеты «Фау-2» спустили. Эге, думаю, вот оно что: тут будет подземный секретный завод по производству ракет. Не бывать этому, ракеты на своих братьев я делать не стану, лучше смерть. И решился. Выбрал момент, когда эсэсовца за спиной не было, положил ногу на камень, второй, пуда на два, взял в руки, приподнял, зажмурился и трахнул. И там, где была ступня ноги — мокрое место осталось. Схватил ногу в руки и сел. Кровища хлещет. Тут же эсэсовец подбежал с руганью, с палкой. Кричал, бил, пинал. Подошел начальник команды гауптшарфюрер Рейхард: «Вас ис лос?» Что, мол, случилось, спрашивает. Говорю: «Камень с потолка обвалился и ногу покалечил...» Посмотрел Рейхард, сплюнул и гаркнул: «В утиль! В концлагерь! Прочь!» И вот, хлопче, я тут, с тобой, учим выговаривать паляныцю. А яка ж вона смачна та добра! А теперь давай спи, поздненько уже.
Я все еще был во власти его неторопливого рассказа, видел, как этот спокойный, с ласковым голосом человек уродует себе ногу, корчится от боли, а эсэсовец пинает его. Я уже начал дремать и вдруг вздрогнул от треска, вскинул руки, — Дубравенко перелезал через меня и спускался с нар.
— Степан, ты куда?
— Пойду в блок, у печки посижу, не спится что-то, растревожил с тобой душу.
— И я посижу.
— Як знаешь.
Догорающая печка лениво постреливала неяркими бликами, дышала скупым теплом. Дубравенко порылся в поддувале, вытащил ноздристый кусок остывшего шлака, повертел в руке, почесал им ладонь. Потом медленно размотал грязный, слипшийся бинт на ноге, поморщившись, оторвал конец бинта от раны и начал ковыряться в ней куском шлака, посыпая красное гноящееся мясо пеплом. Меня всего передернуло.
— Что ты делаешь? — изумленно спросил я.
— Рану, хлопче, подлечиваю, чтобы дольше не заживала.
— А вдруг заражение начнется?
— Чудак ты. — Он посмотрел на меня недовольным, раздраженным взглядом. — Начнется заражение — отпилят, и вся недолга.
— Я тебя не понимаю.
— Что ж тут понимать, хлопче? Нога должна болеть долго, для того я ее и увечил. Вот и все.
— Сам себя калекой делаешь?
— Так, глупый, надо.
— Ты офицер? — спросил я шепотом.
— Сказанул тоже, офицер... Да я и в армии-то не служил, и на фронте не был. Механик я по тракторам. В МТС работал, секретарем парторганизации, правда, был, перед самой войной.
— А как же сюда?
— Как все. Пришли ночью пьяные полицаи, схватили, в Киев, в тюрьму, из тюрьмы — сюда. Могли бы, конечно, в тюрьме расстрелять, как многих расстреляли, да, видно, какая-то пружинка у них не сработала — милость оказали, в концлагерь отправили. Здоровый я, пожалели: пусть, мол, поработает, а там сам сдохнет. Потом в Дорндорф, потом в утиль списали. Теперь утильным надо и остаться до конца войны, до полного их разгрома. Понял?
Он опять посмотрел на меня недовольно и стал усердно колупать шлачиной рану, отдирая куски сгнившего мяса и бросая их в поддувало. Из поддувала на его сосредоточенное хмурое лицо падали неяркие пятна света, и я видел его глаза, спокойные, мудрые, словно он не ногу калечил, а чинил валенок или коробку скоростей собирал.
— Скоро осмотр будет, комиссия, на работу выписывать станут. А нога подживает. На мне всегда быстро все заживает, как на собаке. Порежу где или сшибу — враз затягивается. А мы вот малость подлечим, и опять загноение начнется, краснота пойдет, не выпишут. Кранк. — Он посмотрел на меня уже ласково, и глаза его улыбались. — Кранк, понял?
— Пропадет нога. Спилят.
— Лучше я без ноги останусь, а работать на фашиста больше не стану. Довольно, поигрались. Да и знаю я, как они подлечивают. В Дорндорфе случай был на моих глазах. Штольню мы тогда прокладывали. Поляка одного схватило. Молодой, кучерявый такой, а глаза голубые, как небо весеннее. Славный был поляк, добрый и не унывал никогда. Да, так вот, упал он, руками в живот вцепился, корчится, зубами скрежещет. Гауптшарфюрер недалеко проходил, увидел, подбежал, пинками поднимать стал поляка: «Что за комедия, польская свинья?» — «Аппендицит, пан гауптшарфюрер, — стонет бедняга, — гнойный, третий приступ, я врач, я знаю, что со мной...» — «Гнойный? — говорит эсэсовец. — Третий приступ? Так, так, сейчас поможем, сделаем операцию, польская скотина, комедиант, лентяй. На тачку!»
Эсэсовцы и капо перевернули вверх дном тачку, швырнули на нее поляка, задрали куртку, сорвали штаны. Рейхардт вытащил из кармана складной нож, засучил рукава, словно собрался разделывать свиную тушу, поплевал на руки и полоснул поляка по животу. Отхватил кусок какой-то кишки, выбросил, сплюнул и приказал зашить рану куском грязного шпагата, которым были обвязаны ящики с оборудованием.
«Я — владелец мясной лавки, — сказал он весело, — любую тушу разделаю, как француз лягушку. Освобождаю от работы на сутки, господин оперированный...» — И заржал, будто молодой жеребчик.
Поляк освобождением не воспользовался, он умер через шесть часов. Так, хлопче, лечат фашисты. А ты говоришь — подлечил бы...
Дубравенко опять забинтовал ногу, вздохнул и поднялся.
— Печь-то, хлопче, совсем остыла. Пойдем сны досматривать, может быть, жинка с ребятишками приснятся, страх как соскучился. Как они там бедуют без меня?
Он, неловко и тяжело приседая, поскакал на одной пятке. Влезли на нары, улеглись. Дубравенко порылся, кряхтя, в какой-то тряпице, вытащил заеложенную пайку, разломил, протянул половину мне.
— На, хлопче, пожуй.
Я стал неловко отказываться: пайка, мол, у каждого одна, и чего ради я должен есть чужой хлеб.
— Бери, бери, не ломайся, я свою съел, эту Луи подбросил вечером, на двоих. Ох, и тяжела да горька фашистская паляныця, как ком сырой глины с погоста. Бери, жуй. На сытое брюхо легче спится. Дай бог, переживем лихолетье, приедешь ко мне в гости, угощу я тебя тогда настоящей паляницей.
Но мы в ту ночь так и не уснули. Я попросил Дубравенко рассказать о себе, о прошлой жизни, о родном селе.
— Чтобы овладеть чужим языком, — начал доказывать я, — надо знать душу народа, землю, на которой он живет. Расскажи об Украине.
— Я этих твоих мудрых слов не разумию, — зашептал он мне. — Душа у народа проста. Он знает, видит свою землю, знает, что на ней надо делать, понимает: весна пришла — сеять надо, лето — косить надо, полоть, осенью — урожай убрать вовремя. Будешь сыт, обут, одет. Будешь здоров и весел. Всему голова — труд. Народ любит, умеет трудиться. Вот и вся душа. Встанешь, бывало, рано-рано, до восхода, легкий парок над ставом курится, левада вся в росе, от криниченьки Оксана идет, высокая, черная коса ниже пояса, несет на коромысле два ведра воды. Походка плавная. Несет и мне улыбается: мол, раньше тебя встала. А по селу, поднимая копытами пыль, уже бредет стадо. А за стадом тянутся запахи хлева, парного молока и кизяка. Дыши — не надышишься, любуйся — не налюбуешься. Как об этом расскажешь? А? Эх, хлопче...